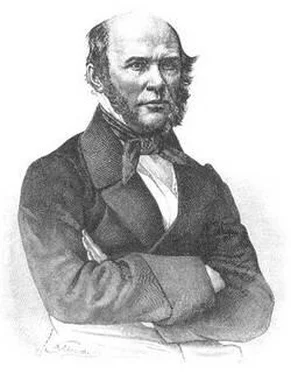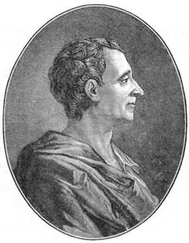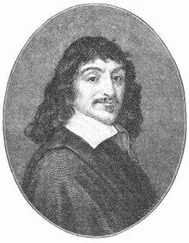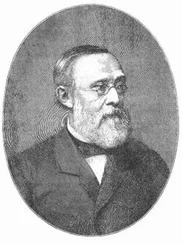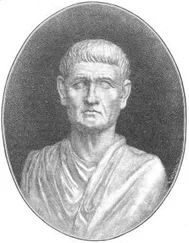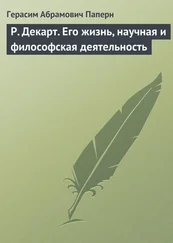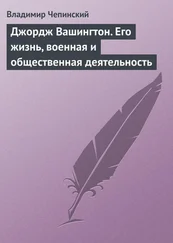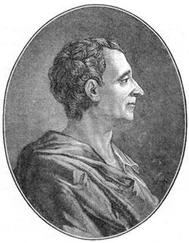А какие ужасные моменты приходилось переживать Пирогову как человеку и хирургу, которому дороги его оперированные, можно судить по следующему возмутительному факту безграничной небрежности военной администрации. В одну ночь в апреле 1855 года Пирогов получил приказание из штаба перевести всех раненых и ампутированных числом 500 человек после второй бомбардировки города из Николаевской батареи на Северную сторону. Пирогова уверили, что там все уже приготовлено для их приема; сам он не имел времени отлучиться с перевязочного пункта, куда постоянно подносили свежих раненых. Оказалось на деле, что там, куда повезли этих раненых, не существовало даже никакого приготовленного здания для их принятия.
“И вот, – рассказывает Пирогов, – всех этих тяжелых свалили зря, как попало, в солдатские палатки… До сих пор с леденящим ужасом (писано в 1876 году) вспоминаю эту непростительную небрежность нашей военной администрации. Но этого было мало! Над этим лагерем мучеников вдруг разразился ливень и промочил насквозь не только людей, но даже и все матрацы под ними. Несчастные так и валялись в грязных лужах. Можно себе представить, каково было с отрезанными ногами лежать на земле по три и по четыре вместе; матрацы почти плавали в грязи, все под ними и около них было насквозь промочено; оставалось сухим только то место, на котором они лежали, не трогаясь, но при малейшем движении им приходилось попадать в лужи. А когда кто-нибудь входил в эти палатки-лазареты, то все вопили о помощи, и со всех сторон громко раздавались раздирающие, пронзительные стоны и крики, и зубовный скрежет, и то особенное стучание зубами, от которого бьет дрожь. Врачи и сестры могли помогать не иначе, как стоя на коленях в грязи. По двадцати и более ампутированных умирало каждый день, а их было всех до 500. От 10 до 20 мертвых тел можно было находить меж ними каждый день, и немногие из них пережили две недели после этой катастрофы”.
1 июня 1855 года больной, измученный физически и нравственно, Пирогов уехал из Севастополя в Петербург.
6 июня союзные войска решили произвести штурм Севастополя. С громадными потерями этот первый штурм был отбит. Опять наступило затишье. Положение Севастополя делалось отчаянным. Тотлебен, русский Вобан, как его называли французы, был ранен, а душа Севастопольской обороны Нахимов был убит. Малахов курган, ключ к Севастополю, на котором в самом начале осады пал Корнилов, в конце ее сделался могилой для Нахимова. Сражение при Черной речке (4 августа) послужило толчком к усилению неприятельских действий против осажденного города. 24 августа началась так называемая шестая бомбардировка Севастополя, а 27-го неприятель пошел на штурм и овладел Малаховым курганом. Это решило участь Севастополя. В ночь на 28 августа город был оставлен, все эвакуированы на Северную сторону.
Отдохнув несколько летом в Ораниенбауме, Пирогов в сентябре снова вернулся в Севастополь, где застал множество раненых после штурма Малахова кургана. Несчастные кучами лежали в палатках на Северной стороне. Других приготовляли к отсылке в Симферополь или в Бахчисарай. Теперь весь вопрос попечения о раненых и больных сводился к дальнейшему их транспорту из Симферополя, куда всех раненых направляли прежде всего. В этом пункте скопилось свыше 13 тысяч больных и раненых. В городе не хватало места, и в госпиталях его царствовал такой беспорядок, что в результате последовало Высочайшее назначение следственной комиссии.
Пирогов перенес свою деятельность из занятого неприятелем Севастополя в Симферополь и старался всеми силами упорядочить госпитальный уход за больными и их дальнейший транспорт. Для помещения больных были построены бараки из досок, лишенные всяких удобств, не имевшие даже полов, вследствие чего в них постоянно поднималась невозможная пыль. Бараки эти не защищали больных ни от холода, ни от дождя. И бараки и квартиры для сестер милосердия были холодны, сыры и совершенно не имели вентиляции. Госпитальная же администрация во главе со своим начальником генералом Остроградским, как всегда, желала, чтобы врачи находили всё удовлетворительным, и очень неохотно отпускала дрова, теплую одежду и горячую пищу.
“Я должен был, – рассказывает Пирогов, – неустанно жаловаться, требовать и писать. При этом частом писании мне невозможно было всегда обдумывать слова и выражения, какие считаются уместными в официальных бумагах, и чрез это несколько раз выходили неприятности. Некоторые мои выражения в письменных моих просьбах оказались “несоответственными” или недостаточно вежливыми. Особенно обидчивым на этот счет показал себя начальник госпитальной администрации, г-н Остроградский. Однажды после неоднократных и напрасных моих просьб к нему о том, чтобы он снабдил нас дровами для отопления наших ледяных бараков и помещений сестер, Остроградский напал на одно мое “неприличное выражение” в письме (“имею честь представить на вид”) и пожаловался на меня князю Горчакову, и вследствие этой жалобы мы дров не получили, но я зато получил резкий выговор от Горчакова”.
Читать дальше