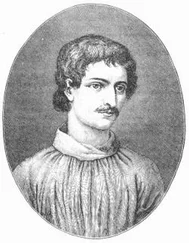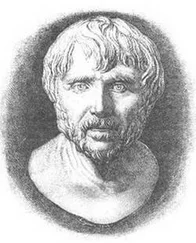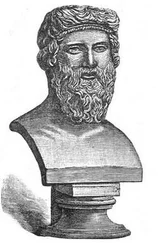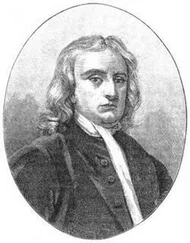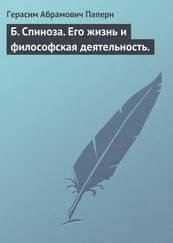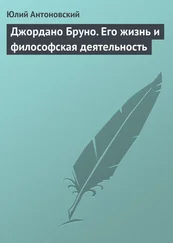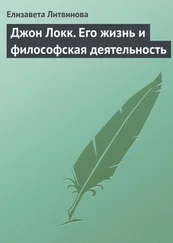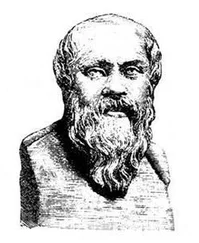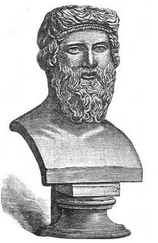Чтобы понять это, представим себе, что кто-либо совершает поступок, имеющий внешний вид нравственности, ради страха или из честолюбия. Такой поступок, очевидно, нельзя еще назвать нравственным. Но Кант идет еще дальше. По его мнению, если руководившее нами чувство было даже, как говорят, хорошим (например, симпатия), и мы подчинили нашу волю не нравственному закону, а велению этого чувства, то наш поступок еще не может считаться моральным. Если я делаю добро только потому, что мне это доставляет удовольствие, мой поступок также еще не может считаться нравственным. Эта сторона учения Канта вызвала сильный отпор и даже насмешки. Многие утверждали, будто Кант требовал, чтобы всякий нравственный поступок совершался не с удовольствием, а с отвращением. Даже поэт Шиллер, один из самых пламенных почитателей Канта, полагал, что Кант оставил слишком мало на долю чувства и что его требования чересчур суровы.
Кант возразил на это следующим образом: «Я действительно признаю, что в понятии нравственного долга, именно ради его достоинства, не может быть привлекательности. Величие закона внушает почтение, чуждое и отталкивающего страха, и интимной привлекательности. Но добродетель, то есть прочное настроение, побуждающее к точному исполнению долга, в своих последствиях благодетельна более, нежели природа и искусство; и прекрасное зрелище человечества в этом образе добродетели, конечно, допускает присутствие граций, которые, однако, держатся в почтительном отдалении, пока речь идет единственно о долге». «Но если спросят, каков эстетический характер и каков темперамент добродетели, – бодрый, стало быть веселый, или же тревожно-униженный и забитый? – то едва ли это требует ответа. Это последнее рабское настроение духа не может появиться без скрытой ненависти к нравственному закону, и радостное сердце, следующее своему долгу, есть признак подлинности добродетельного настроения».
Кант не только учил, но и жил таким образом, как описано в этих красноречивых словах. Мрачный аскетизм и преувеличенная суровость были совершенно чужды его натуре и его учению.
О Канте, как и о Сократе, можно сказать, что он был не только философ в обыкновенном смысле этого слова, но мудрец, живший в мире и для мира. Он сам определил всю свою деятельность, сказав, что две вещи в мире наполняют его священным трепетом: созерцание звездного неба и сознание нравственного долга. В своей «Естественной истории неба» он положил начало самым широким обобщениям относительно мира явлений; в своем сочинении о религии Кант провозгласил принцип: нравственная жизнь, и только она одна, есть истинное служение Божеству. «Все, за исключением добродетельной жизни, что человек думает сделать, чтобы угодить Богу, есть просто суеверие и лжеслужение (Afterdienst) Божеству». Если о каком-либо философе можно сказать, что для него религия была моралью, и, наоборот, мораль – религией, то таким философом был, конечно, Кант. Он имел полное право сказать, что его учение есть религия чистого разума.
Литература о Канте настолько обширна, что мы ограничиваемся указанием лишь на главнейшие сочинения, в которых можно найти чисто биографические сведения.
l. Borowski. Darstellung des Lebens und Charakters Kants. 1804.
2. Jachmann. Kant. 1804.
3. Wasianski. Kant. 1804.
4. Schubert. Kants Biographie. (Kants Werkeherausgegeben von Rosenkranz und Schubert. Bd. 11).
5. Kuno Fischer. Kant. Heidelberg. 1889.
6. E. Arnoldt. Kants Jugend.
Тот из немецких поэтов, который наиболее подчинился влиянию философии Канта и открыто признавал это влияние – мы говорим о Шиллере – как известно, более всех способствовал серьезному отношению поэзии к женщине; достаточно указать на ряд чудных женских типов, составляющих главную прелесть драматических произведений Шиллера.
При изложении системы Канта мы будем, без особых цитат, приводить разные выражения из его главных сочинений, а именно из «Критики чистого разума», из «Prolegomena», из «Критики практического разума» и других сочинений 1781–1798 годов, так как, по нашему мнению, все эти труды составляют одно неразрывное целое.