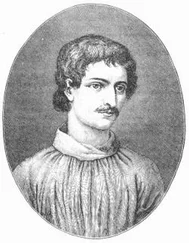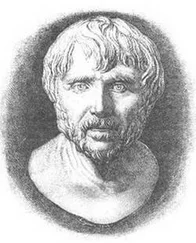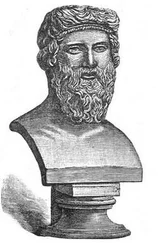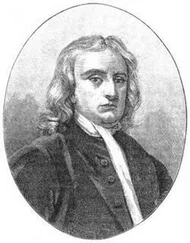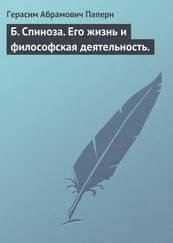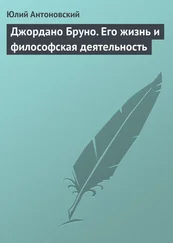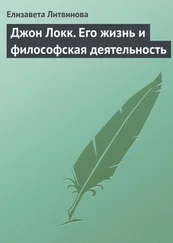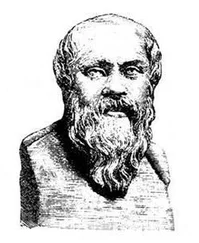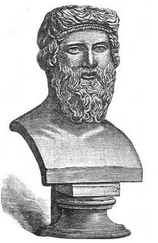Выше было уже выяснено влияние, оказанное на Канта его ближайшими предшественниками: с одной стороны – Лейбницем и Вольфом, с другой – Юмом и Руссо. Критика Канта действительно занимает среднее положение между всеобъясняющим рационализмом Лейбница и эмпирическим скептицизмом Юма, между примиряющей, сухой философией Вольфа и страстным протестом Руссо.
Учение Канта, в крупных чертах, распадается на три части: критику теоретического разума, критику практического разума (или учение о нравственности) и критику эстетического суждения. Другими словами, метафизика, понимаемая как отрицание старой метафизики, этика и эстетика – таково содержание философской системы Канта. Теология не является у него отдельной, самостоятельной областью, так как вся основана на морали.
Приведем основные положения «метафизического» учения Канта, воздерживаясь на этот раз от подробных критических замечаний: главное из них, а именно в пользу опытного происхождения и относительного характера априорных форм Канта (пространства и времени), было уже нами сделано. [2]
В начале своего исследования Кант задается вопросом: возможна ли такая наука, как метафизика, и замечает, что до него этот вопрос почти не был поставлен. Серьезнейшей попыткой постановки более частного вопроса, входящего в этот общий, была скептическая система Юма. Вместо общего вопроса о возможности метафизики Юм задался целью узнать: возможно ли доказать существование необходимой связи между причиной и следствием? Это, конечно, один из капитальнейших философских вопросов, от которого зависит взгляд на то или иное значение всех истин физических наук, не могущих сделать ни шага без понятия о причине явления. Юм, как известно, решил вопрос в скептическом смысле. По какому праву разум считает, что нечто, именуемое причиной, обладает такими свойствами, что раз оно дано, этим самым необходимо дается другое, раз дано А (причина), то необходимо дано и Б (следствие)? Почему существование А необходимо влечет за собою существование Б? Юм решил, что тут кроется просто иллюзия, обман воображения. Воображение связывает между собою явления А и Б, руководствуясь часто повторяющимся опытом; ассоциация (сочетание) представлений, то есть чисто субъективная необходимость, или привычка, ложно принимается нами за нечто объективное, находящееся в самой причине и в самом следствии. Другими словами, по мнению Юма, никакой необходимой связи между явлениями нет, и она является лишь иллюзией нашего разума.
«Сознаюсь, – откровенно пишет Кант, – что учение Юма прежде всего прервало мою догматическую дремоту и дало совершенно новое направление моим исследованиям… Я был далек от того, чтобы принять выводы Юма, вытекавшие лишь из того, что Юм не представил себе задачи во всей ее совокупности». Вместо того, чтобы, подобно Юму, ограничиться изучением идеи причинной связи, Кант поставил гораздо более общий вопрос: каким образом вообще наш рассудок может составлять априорные, то есть предшествующие опыту суждения? Кант заранее исключил так называемые аналитические суждения, составляющие лишь простое расчленение и объяснение данного понятия, и занялся суждениями синтетическими, то есть такими, которые прибавляют к данному понятию новое содержание. Если я говорю: все тела протяженны, то этим я нимало не расширяю понятия о теле, но лишь объясняю его, так как понятие о протяжении уже входит в понятие тела. Такие объяснительные суждения называются аналитическими, и они, разумеется, не требуют опыта. Было бы нелепо проверять опытом относительно каждого тела свойство протяженности, без которого само тело немыслимо. Иное дело суждение: «Все тела тяжелы». Тяжесть не есть необходимое свойство тела, вытекающее из самого понятия о теле. Тело не может быть более или менее протяженным, но тела бывают более или менее тяжелыми, и ум легко допускает существование тел совсем не тяжелых, невесомых. Если я говорю: «Некоторые тела тяжелы», то это уже синтетическое суждение, потому что к понятию тела я прибавляю новое содержание, приписывая ему свойство быть тяжелым. Спрашивается, каким образом подобное суждение может быть априорным, то есть предшествовать опыту? Что убеждает меня в том, что все тела в природе необходимо тяжелы? Аналитическое суждение априорно даже в том случае, если составляющие его понятия эмпиричны. Если я говорю: «Золото – желтый металл», то не требуется никакого проверочного опыта, это есть лишь расчленение понятия о золоте. Все чисто опытные суждения, наоборот, синтетичны, потому что расширяют содержание понятия. Но, спрашивается, следует ли сказать, наоборот, что все синтетичные суждения опытны, как думает Юм относительно суждений о причинной связи?
Читать дальше