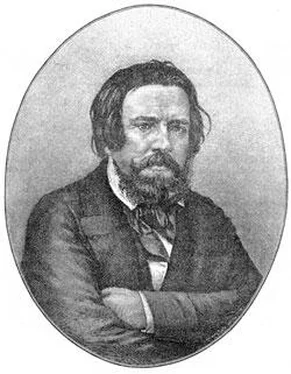«Мы, художники, – говорил он, – получаем недостаточное общее образование; это связывает нам руки. Сколько сил у меня достанет, буду стараться, чтобы молодое поколение было избавлено от недостатка, от которого мне пришлось избавляться так поздно». «У нас, в России, находится много людей с прекрасными талантами к живописи. Но великих живописцев не выходит из них потому, что они не получают никакого образования. Владеть кистью – этого еще очень мало для того, чтобы быть живописцем. Живописцу надобно быть вполне образованным человеком. Если я получу какое-нибудь влияние на искусство в России, я прежде всего буду хлопотать об устройстве такой школы живописи, где молодые люди, готовящиеся быть художниками, получали бы основательное общее образование. Руководителем в живописи молодых художников я желал бы быть. В среде их могло бы развиться новое направление искусства. Я уже стар, а на развитие искусства, удовлетворяющего требованиям новой жизни, нужны десятки лет. Мне хотелось бы положить хотя начало этому делу. Буду трудиться, мало-помалу научусь яснее понимать условия нового искусства, а потом выйдут из нового поколения люди, которые совершат начатое мною».
Наряду с желанием быть руководителем молодежи у Иванова является порою сомнение, так ли он понимает задачи нового искусства. Проведя тридцать лет в непрерывном труде, пользуясь всяким удобным случаем, чтобы пополнить свое образование, Иванов все еще считал себя недостаточно готовым к тому делу, которому собирался посвятить остаток дней своих.
«Новое время, – говорит он, – требует нового искусства. Идея нового искусства сообразно с современными понятиями и потребностями еще не вполне прояснилась во мне. Я должен еще долго и неусыпно трудиться над развитием своих понятий; не раньше как через три-четыре года я сам отчетливо пойму, что и как я должен делать; я должен разработать свои понятия и должен определить их; раньше той поры, когда определится во мне идея современного искусства, я не могу производить новые картины. До той поры я должен работать не над изображением своих идей на полотне, а над собственным образованием».
Еще будучи в Италии, Иванов много думал о средствах поднять искусство на родине; он мечтал об устройстве в России публичных картинных галерей, национального музея. Он живо интересовался недавно устроенным тогда московским рисовальным классом, в пользу которого пожертвовал картины покойного отца и свои рисунки, сделанные в Академии.
Постоянно стремясь проверять свои взгляды мнениями людей науки, Иванов старался сблизиться с известными петербургскими учеными и посетить тех из них, беседа с которыми обещала ему много нового. Но в разговорах с ними он продолжал держаться своей старой привычки – гораздо более слушать, нежели говорить. Между прочим, он побывал в Императорской публичной библиотеке, где с нетерпением ожидали его В. В. Стасов и помощник его, Горностаев. Долго беседовал с ними художник об искусстве, о старейших изображениях Христа, прося показать ему все имеющееся по этому вопросу в библиотеке. В.В. Стасов показал все, что только могло интересовать художника, и был поражен глубокими знаниями Иванова по части истории искусства.
Не одна живопись занимала Иванова, но все русское было близко и дорого ему, начиная с русской речи, о которой он говорил: «Это для меня музыка», и кончая русской музыкой, с которой он жаждал ознакомиться. К сожалению, ему ничего не пришлось услышать из сочинений русских композиторов, так как в то время наступил уже летний сезон. Зато удалось ему видеть на сцене «Ревизора», которого он часто слышал в чтении самого автора. Иванов был в восхищении от «Ревизора» и все время хохотал, как ребенок; только в конце призадумался он и совсем переменил тон: «Ведь как вдумаешься, то надо больше плакать, чем смеяться», – решил он, негодуя на свой невольный, искренний смех.
Вскоре по приезде Иванова в Петербург должно было состояться освящение Исаакиевского собора, куда, понятно, собирался и художник. Тут произошел с ним забавный случай, о котором он писал потом брату. Иванов обратился к председателю комиссии по построению храма, графу Гурьеву, с просьбой дать ему билет. Так как его представил Монферран, то граф принял его почему-то за француза. «Est-ce que vous êtes français, monsieur?», – вежливо спросил он Иванова. «Non, monsieur, je suis russe». «Как, русский! – воскликнул начальник комиссии. – Я никак не могу вас в этом костюме и с бородой допустить к послезавтрашней церемонии. Француза – дело другое, но русского – никак». Иванов отвечал, что только что был представлен государю императору, который, обласкав его, ничего об этом не заметил. Этот довод Иванова, нисколько не убедив старого графа, только еще более рассердил его.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу