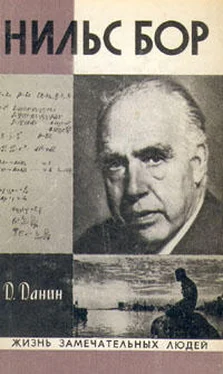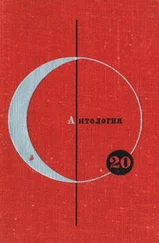Незатихающей темой их бесед на долгих прогулках в Тисвиле было, конечно, и боровское Открытое Письмо; Тут споров не возникало: зло атомного шантажа и ядерных испытаний было младшему не менее ясно, чем старшему. Но Бору радостно было убедиться, что Гейзенберг готов к энергичному участию в борьбе с атомной угрозой: Аденауэр требовал тогда для Западной Германии права на ядерное вооружение, а 18 ведущих геттингенских физиков во главе с Гейзенбергом и фон Вейцзеккером решительно протестовали против этих притязаний. Они выработали свой манифест с публичным отказом в любой форме служить атомной военной программе. И когда вскоре — в апреле 1957 года — появился этот Манифест 18-ти, Бор почувствовал, что Гейзенберг наконец обелил себя перед моральным судом современников…
Словом, Бор с легким, сердцем написал вступительную статью к юбилейному гейзенберговскому тому. И вспомнил на ее страницах о многих, кто был неизменно дорог его душе: о Крамерсе, Паули, Дираке… И закончил ее признанием лирико-историческим.
«При публикации моих воспоминаний о старом времени моему сердцу ближе всего желание подчеркнуть, что только близкое сотрудничество целого поколения физиков из многих стран позволило шаг за шагом навести порядок в новой широчайшей области знания. Было замечательным приключением жить в ту эпоху, и Гейзенберг занял в ней выдающееся место».
Жизнь и без заданного заранее сюжета сводила концы с концами…
Потом настала короткая пора — не годы, а месяцы, недели, дни, — когда все в его жизни свершалось в последний раз, а он не знал, что в последний раз.
…В последний раз была традиционная рождественская елка в институте на Блегдамсвей.
…В последний раз был Новый год.
…В начале этого нового года — тысяча девятьсот шестьдесят второго — случай, всегда безучастный к прошлому и будущему, в последний раз нанес ему тяжелый УДар.
Воскресным вечером 7 января пришла телеграмма из Москвы. Щадя старого друга, Капица адресовался к его семье. Утром по дороге в Дубну — Бор с прошлогодней весны хорошо помнил это шоссе — Ландау попал в автомобильную катастрофу. Он лежал без сознания. Грозил отек мозга.
Бор выслал нужное лекарство на следующий день — самолетом. И верил: Дау удастся спасти. И нисколько не удивился, когда позднее узнал, что 87 московских физиков — учеников и друзей Ландау — с первой минуты отдали себя в распоряжение врачей для выполнения любых поручений, став добровольными курьерами, связными, носильщиками, шоферами, мастеровыми. И то был счастливый для Бора день, когда в марте 62-го его оповестили, что к Дау вернулось наконец сознание.
…Весною Бор в последний раз готовился к научному докладу. Уж очень заманчив был повод.
Макс Дельбрюк — тот, что тридцать лет назад под влиянием его лекции «Свет и жизнь» решил перекочевать из физики в генетику, — открывал новый Институт молекулярной биологии в Кельне. Ныне, уже в свой черед стареющему, ему захотелось, чтобы молодые биофизики обрели в начале пути тот же вдохновляющий опыт, какой некогда стал его достоянием на галерее копенгагенского Риксдага.
Мог ли Бор не приехать?!
Он приехал в июне. И был у него с собой черновой вариант новой лекции «Еще раз о свете и жизни». Уже в Кельне он переводил черновик с английского на немецкий. Надеялся со временем доработать текст для печати. Не предчувствовал, что этот текст так и останется его последней — незаконченной — рукописью.
…В том июне на германской земле он мог в последний раз почитаться нерушимо здоровым человеком. В последний: там после Кельна, во время конференции в Линдау его настиг микроинфаркт.
Казалось, все обошлось. В духе своего неистощимого жизнелюбия он даже готов был пошучивать, что у исследователя микромира и может случиться не более чем микробеда. Чем старее он становился, тем чаще повторял одну из любимейших своих мыслей: «На свете есть столь серьезные вещи, что говорить о них можно только шутя!» Он и говорил шутя, да вещь-то, на несчастье, была нешуточной серьезности. Врачи посоветовали отдохнуть в Италии. Вместе с Маргарет он провел около месяца на берегу Салернского залива — в старинном городке Амальфи, где дома карабкались в гору и соединялись каменными лестницами, а на крышах росли рабские сады. Потом вернулся в Копенгаген, спокойный и окрепший, не утратив ощущения бескрайности отмеренной ему жизни.
…В августе он в последний раз отпраздновал годовщину своей свадьбы с неизменно красивой и всепонимающей Маргарет, точно неподвластной бегущим годам. Но в отличие от всех предыдущих годовщин эта была единственной и редчайшей: золотая свадьба! Он чувствовал себя счастливцем, обманувшим время.
Читать дальше