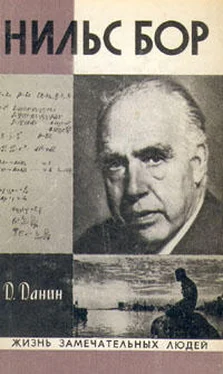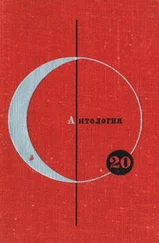Он полюбил в часы тисвильских и карлсбергских досугов возню с детьми своих сыновей, как некогда любил возиться с ними самими. Теперь в обществе внуков и внучек ходил он навещать старого соседа по Вересковому дому художника Вильяма Шарфа. И тот сохранил живое воспоминание об его стариковской фигуре, обвешанной с ног до головы малышами, совершенно так, как это бывало и с его молодой фигурой четверть века назад. Теперь детям своих детей читал он вечерами исландские саги и сказки Андерсена, сцены из Диккенса и Марка Твена, декламировал Гете и Шиллера, пересказывал юмористику Вудхауза и Ликока и даже пытался объяснять Кьеркегора. Теперь детям своих детей показывал он за столом фокусы с поющим стаканом или салфеточным кольцом, возвращавшимся к нему, как бумеранг.
Это под конец жизни его щедрое отцовство возвращалось к нему, как некогда брошенный бумеранг. Множество снимков задокументировало его дедовскую любовь.
…Вот он, оседланный ликующим внуком, катает мальчишку по саду в Тисвиле. А вот, громадный, как Гулливер, играет с малышами в мяч под колоннадой Помпейского дворика.
…Вот он, отчаянно раскрыв рот, экспериментально обучает хмурого внука трудному искусству засовывать ложку в рот без помощи взрослых. А вот увлеченно инструктирует другого внука на убегающей под уклон лыжне.
…Вот он сосредоточенно демонстрирует ребятам нечто важное в карлобергской гостиной.
А позади на стене виден большой портрет сильного юноши с закатанными рукавами. Внуки знают: это их безвременно погибший дядя Кристиан. И знают, что портрет написан другом погибшего — художником Юлиусом Поульсеном.
— Сколько исполнилось бы дяде Кристиану?
— Сорок три…
— Сорок четыре… — Сорок пять…
Любопытство подрастающих не иссякает. Каждый год прибавляет по единице.
Когда вокруг никого нет, Бор иногда подолгу стоит возле этого портрета и молча думает. С каждым годом в его высокой фигуре все заметней классически ожидаемая согбенность патриарха — массивность давно и прочно живущего на земле человека. Седые брови все явственнее нависают над глазами. Скульптурно тяжелеют щеки и рот. Все чаще ему хочется опуститься в кресло напротив и думать, покойно сложа на коленях занятые погасшей трубкою руки. Молодые, нечаянно застав его в такую минуту, останавливаются на пороге и неслышно отступают.
Все понимают, о чем он думает.
Порою понимают неверно. Он не думает о смерти. А если думает, то не о своей. А если о своей, то без трагизма. Ему азбучно ведомо: жизнь и смерть — абсолютные несовместимости. И лучшие слова об этом были сказаны за две тысячи лет до него: там, где есть смерть, там нет нас, а там, где есть мы, там нет смерти. А вместе с тем смерть — неизбежный предел жизни и потому входит в ее состав, как мгновенье. Тут не о чем беспокоиться… Смерть никогда не была темой его размышлений. Темой была жизнь. И единственное, чего он хотел бы от конца жизни, — смерти без умирания.
В те минуты наедине с собой и Кристианом он думал и о других утратах. Сравнительно недавних и горчайших.
…В январе 47-го умерла тетя Ханна. Ее и вправду унесло время: ей было восемьдесят восемь. Ее неукротимый дух оставил памятный след в жизни всей семьи. И в жизни самой Дании. Благодарный Копенгаген, знавший образцовую школу фрекен Ханны Адлер, отмечал в 59-м году столетие со дня ее рождения. Он, ее любимый племянник, (странно и забавно было в семьдесят четыре года сызнова ощутить себя мальчиком-племянником), написал предисловие к книге, ей посвященной, где впервые вслух рассказывал о своем детстве. И только горчее горького было, что Харальд уже ничего не мог прибавить к этим воспоминаниям.
…Харальд умер в январе 51-го, всего на четыре года пережив тетю Ханну. Его унесло не время. И не трагический случай. Он погиб от той застарелой болезни, что мучила его с молодости. В больнице его питали уже через трубочку. А он не терял своей всегдашней веселости. Радовался тем часам, что проводил у его постели брат. Подтрунивал над очевидной и неутешительной дополнительностью жизни и смерти. Им обоим хотелось быть неразлучными, как в детстве. А приходилось разлучаться навсегда. Это была смерть с умиранием. И она позволяла сохранять оптимизм до конца только самому умирающему. Сколько философских систем теряли свою, логичность и сколько религий — свою самоуверенность перед лицом этого безвременного и потому несправедливого изживания жизни!
Пришли многочисленные телеграммы и письма. Среди них — сочувственные строки Эйнштейна. Бор ответил Эйнштейну, что это было утешением для него — убедиться, как много друзей оставил в мире Харальд. То были и его друзья.
Читать дальше