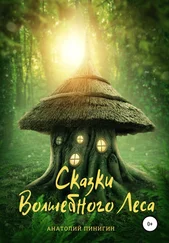И опять — забытье.
Кружится голова, гудит, гудит, как басовитый гудок назаровского завода. С усилием открываю глаза. Худенькая девочка лет шести серьезно спрашивает:
— Ты теперь не будешь умирать, как ночью?
Едва заметно качаю головой, и девочка понимает этот молчаливый знак. Лицо ее озаряется улыбкой.
— А тебе больно? Мы с бабусей ночью спину тебе чистили. И гусиным салом мазали… Ой, какой ты страшный был! Синий весь, а на спине — кровь.. Почему босиком ходишь? И раздягнутый. Зимой надо одеваться…
Я молчу, стараясь понять, о чем толкует она эта маленькая голубоглазая девчушка.
— А бабуся в Стародубе. К фершелу пошла. За лекарством.
Хозяйка подобрала меня на рассвете у своего двора. Уходя, она закрывает дом на замок. Возвращается поздно вечером, топит печь, варит незамысловатый обед, чаще всего картошку в мундире, и рассказывает о том, что услышала днем в городе. От села Камень до города километров шесть-семь. Вот она и ходит туда ежедневно на разведку. То, что поведала сегодня, заставило больно сжаться сердце. Погиб Самусев.
В памятную ночь со второго на третье марта до колючей проволоки, ограждавшей Беловщину, добежало трое смертников. Одного подстрелили после того, как я пролез под проволоку. Это был парень с хутора. А Самусев удачно бежал с кладбища, Инстинкт самосохранения гнал его в знакомые места, в Воронок. Ночь была морозной: градусов под тридцать, с ветерком. Как и я, босой, в нижнем белье, Самусев бежал от кладбища. Десять, пятнадцать, двадцать километров… Вот хутор Хотеевка, что километрах в трех от Воронка. Силы Петра Афанасьевича иссякли…
Он постучался к своему дядьке — Василию Поваленко, за которым прочно держалось уличное прозвище Казак.
Поваленко вышел на стук, узнал в темноте Самусева.
— Иди в баню, вчера топлена. Обогрейся там…
Пока Самусев, обмороженный и совершенно беспомощный, лежал в бане, Казак донес полицаям в Воронке:
— В бане у меня ховается коммунист Самусев. В одном исподнем прибег.
Полицаи приехали в хутор, забрали Самусева.
В Воронок привезли его утром, допросили и в тот же день отправили в Понуровку, к районному коменданту, который вновь допрашивал и пытал Самусева. 8 марта 1942 года его расстреляли за селом.
Люди не забывают зла. За палачом-комендантом стали охотиться. Он боялся возмездия и срочно перенес свою резиденцию в Воронок. Это его не спасло: вскоре фашиста убили. Узнав об этом, я невольно припомнил одноглазого Виктора — фиктивного сына фиктивного доктора. Уж не он ли открыл счет за друзей? И еще подумал я в тот зимний вечер о предателе Поваленко с хутора Хотеевка. Он тоже получит по заслугам, дайте только срок!
Люди с черной совестью не должны жить под одним солнцем с нами!
— Ты чего там говоришь, касатик? — подошла ко мне бабушка. — Аль меня кликнул?
— Воюю, бабуся. Готовь солдата в поход: завтра ухожу за Десну, к партизанам. Может быть, найду их там…
Я смотрю с кручи вдаль. На мне длинный армяк, перетянутый узеньким ремешком. В руках крепкая дубовая палка.
В ясное голубое небо поднимается ровными, высокими столбами дым из хатенок, издали похожих на игрушечные коробочки. Редкие, мохнатые от снега деревца, заросли прибрежного лозняка, бескрайние просторы задеснинской степи…
Чертовски хорошо быть свободным и видеть жизнь вокруг себя!..
Сбив на затылок шапчонку, кубарем скатываюсь с кручи, отряхиваюсь от снега. Резкий окрик «Стой!» останавливает меня недалеко от берега. Две винтовки показываются над сугробом, и вслед за ними шапка и кубанка с красной, наискось пришитой лентой.
— Партизаны! Наконец-то свои!
— Руки! Руки в гору, говорят! Порядка не знаешь?
— Да я к вам, я — свой!
— У нас все свои… Петька, обыщи его.
Парень в кубанке проворно ощупал мои карманы.
— Опусти руки-то, чего голосуешь? Окруженец? Откуда будешь?
— С Волги я. Иволгин. Не земляк ли случайно?
— Нет, браток, я по нации — рязанский… — Петька посуровел. — Ну, топай за мной. В штабе разберутся: кто ты и что ты.
По главной улице села скакали конные, деловито сновали пешие. Артиллеристы, по-воробьиному усевшись на стволе пушки, которую тащила пара усталых лошадей, важно взирали на остальных и зубоскалили:
— Эй, пехота, сто верст прошел и еще охота?
Разношерстная, разноликая толпа беззлобно отшучивалась:
— Бездельники! Самих бы вас впрячь в орудию, небось бы живо языки прикусили!
— Откуда здесь столько партизан?
Читать дальше






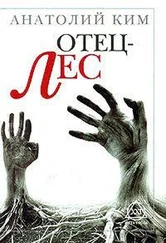

![Марианна Басина - Там, где шумят михайловские рощи [без иллюстраций]](/books/410542/marianna-basina-tam-gde-shumyat-mihajlovskie-rochi-thumb.webp)
![Ирина Токмакова - Сосны шумят [Стихи, повести, сказки]](/books/417372/irina-tokmakova-sosny-shumyat-stihi-povesti-skazk-thumb.webp)