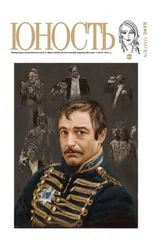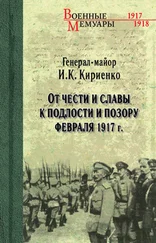Трудно сказать, почему режим так держался за анонимки, — ведь подтверждалось от силы пять-шесть процентов этих доносов, да и то цифра спорная, так как приводили ее защитники анонимных писем. Думаю, что дело было не в этих процентах. Анонимки были мощным и универсальным генератором страха, а система больше всего страхом и держалась, осмелившиеся «выступать» отправлялись в психушки либо высылались из страны, что, впрочем, происходило очень редко.
Изучив ситуацию с «письмами без подписи», которых в «Известия» тоже приходило немало, я решил опубликовать очерк замечательного известинского корреспондента Э. Поляновского «Анонимка». Речь в нем шла о том, как на Дальнем Востоке директора леспромхоза Егорова посадили в тюрьму на семь лет по анонимному доносу, потом выяснилось — одного из бухгалтеров. Но в этом материале сошлось все — и заурядная человеческая подлость, и пороки нашей обвинительной судебной системы, и шкурное поведение следователей, и абсолютная беззащитность каждого из нас перед произволом «представителей государства». Очерк был убойный, в полном смысле этого слова, и потряс всю страну.
Ну а для нас с автором наступило время «окопной войны». Через пару дней после публикации в редакцию пожаловал первый заместитель Генерального прокурора СССР Н. А. Баженов, сопровождаемый свитой в лице еще двух прокуроров. Прокуроры принесли с собой большую авоську, из которой выглядывали тома уголовного дела. Вот где пригодилось правило дополнительной проверки любого подготовленного к печати материала. Практически на каждый документ следствия у нас находился свой документ, каждое свидетельское показание было Поляновским проверено в беседах с теми же свидетелями.
Мы встречались с прокурорами несколько раз. Как водилось тогда, они и жалобу на газету в ЦК КПСС накатали. Следователь Озерчук, который создал дело Егорова, подал на нас в суд. В свою очередь, мы добились повторного суда над обвиняемым, и он был оправдан, оттрубив, правда, в колонии около четырех лет. Дело тянулось около года, и внимание к нему было исключительное.
По мере того как этот спор с Генеральной прокуратурой разгорался, чудовищная роль анонимок высвечивалась все более полно. Редакция занялась борьбой с ними, поставив себе задачу: добиться, чтобы анонимные письма не рассматривались, не регистрировались, не использовались в разного рода справках и обзорах. Их путь должен быть один — в корзину.
«Известия» добились этого… через полтора года, после 11 (!) крупных выступлений на эту тему. Редактор газеты по отделу писем Ю. П. Орлик может с полным правом считать, что он сделал для родного Отечества великое дело — это он готовил, проверял и предлагал к публикации все 11 материалов. Два раза меня вызывали «на ковер» в Секретариат ЦК КПСС, руководители некоторых отделов партийного аппарата пытались доказывать, что 6 процентов подтвердившихся анонимок — большая цифра. В ответ я спрашивал: а невинно страдающие 94 процента — какая цифра? Малая? А политика гласности с анонимным доносительством совместима? А что, те людоеды, которые говорили, что лучше посадить десять невинных, чем проглядеть одного врага народа, были правы? Приходилось отбиваться всеми средствами.
Я и сегодня считаю одной из важнейших побед гласности тот факт, что ЦК КПСС, невзирая на сопротивление отдела организационно-партийной работы, роль и место которого показаны в главе «Кухня», принял решение, запрещающее работать с анонимками. Потом оно было продублировано соответствующим Указом Президиума Верховного Совета СССР. Повторю «и сегодня», потому что, по сообщениям печати, в недрах наследницы КГБ СССР Федеральной службы безопасности появилась инструкция, восстанавливающая былое отношение к анонимкам. Беда, если это так. Начните расследовать анонимки, а уж былую силу они обретут сами.
Не давая себе передышки, не сбавляя темпа, мы в это же время выступили со статьей Эллы Максимовой «Без защиты» — о репрессивном использовании психиатрии. Она же сумела первой раздобыть цифры, показывающие, какое невероятное число советских солдат попало в плен к немцам в первые месяцы Великой Отечественной войны. Ирина Круглянская написала знаменитую «Дорогу» — председатель колхоза построил дорогу, без которой не могло развиваться хозяйство, ну и, конечно, попал под суд. Потом десятки председателей присылали мне письма и телеграммы, извещая, что статья лежит у них под стеклом на столе или даже в рамке повешена на стенку. Александр Васинский впервые за многие десятилетия поставил вопрос о добровольных отставках, а затем дал серию материалов о губительности единомыслия. Инга Преловская подняла вопрос о подмене научных дискуссий наклеиванием ярлыков, конечно же, политических, что было равносильно доносу. Широчайший резонанс получило «Дело Сургутского» — статья Игоря Абакумова о работнике, безвинно осужденном по настоянию секретаря райкома партии. Кстати, мы добились, чтобы прокуратура выплатила Сургутскому зарплату за три года, что он провел в тюрьме, — не думаю, что подобный случай еще хоть раз повторился. Неугомонный Поляновский ввязался в борьбу за восстановление поруганной чести великого подводника Маринеско и победил — Александру Ивановичу Маринеско, которого Гитлер объявил своим личным врагом, был установлен памятник и в 1990 году присвоено звание Героя Советского Союза, хотя этому решению предшествовали многократные ссоры с политуправлением Военно-Морского Флота СССР, руководитель которого адмирал В. И. Панин почему-то никак не мог допустить, чтобы слава Маринеско пополнила славу ВМФ СССР.
Читать дальше
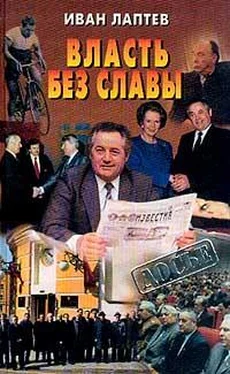
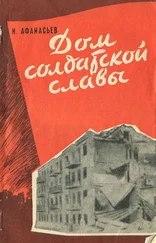
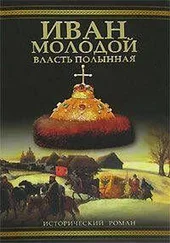
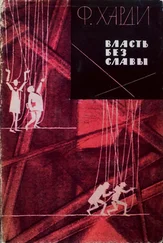
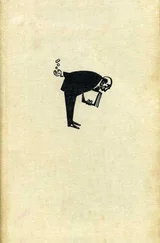
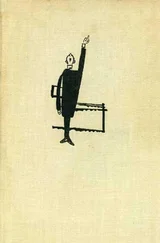
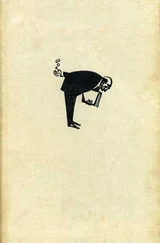

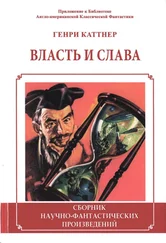
![Генри Каттнер - Власть и слава [сборник]](/books/384991/genri-kattner-vlast-i-slava-sbornik-thumb.webp)