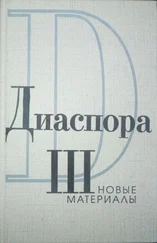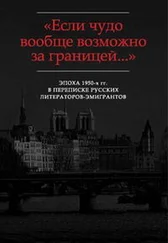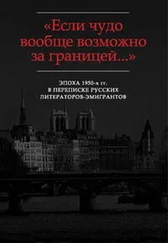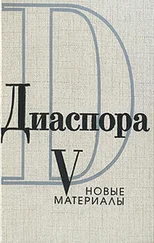Георгий Адамович (1892-1972)
Мои встречи с Анной Ахматовой
Воздушные пути, 1967, №5 стр.99-114
Не могу точно вспомнить, когда я впервые увидел Анну Андреевну. Вероятно, было это года за два до первой мировой войны в романо-германском семинарии Петербургского университета. К этому семинарию я прямого отношения как студент не имел, но часто там бывал: был он чем-то вроде штаб-квартиры молодого, недавно народившегося акмеизма, а заодно и местом встречи первых формалистов, еще не уверенных в себе и разрабатывавших свои теории скорей но отталкиванию от всякого рода нео-Скабичевских, чем по твердому убеждению. На русское отделение историко-филологического факультета романо-германцы посматривали свысока, и не без основания к этому. Гумилев, например, с насмешливым раздражением рассказывал, что на экзамене по русской литературе, — экзамене, на котором он собирался блеснуть знаниями и остротой своих суждений, — профессор Шляпкин спросил его:
— Скажите, как вы полагаете, что сделал бы Онегин, если бы Татьяна согласилась бросить мужа?
В романо-германском семинарии беседы и споры велись на другом уровне, и для меня лично он был окружен особым, таинственным, неотразимо-обаятельным ореолом. Несколько раз в год устраивались там поэтические вечера, — не для публики, а для «своих», — и быть причисленным к «своим», пусть и не без снисхождения, казалось великим счастьем. Однажды К. В. Мочульский, мой будущий близкий парижский друг, — по всему своему порывистому, несколько зыбкому душевному строю и болезненной впечатлительности не способный стать формалистом подлинным, — сказал мне: «Сегодня приходите непременно… будет Ахматова. Вы читали Ахматову?»
Читал ли я Ахматову! С первых ее строк, попавшихся мне на глаза, с обращения к ветру:
Я была, как и ты, свободной.
Но я слишком хотела жить.
Видишь, ветер, мой труп холодным,
И некому руки сложить…
— с этого ритмического перебоя «и некому руки сложить» я был очарован и, как тогда любили выражаться, «пронзен» ее стихами, — почти так же, как несколькими годами раньше, еще в гимназии, был очарован, «пронзен» первыми попавшимся мне на глаза строчками Блока в «Земле в снегу»:
О, весна без конца и без краю!
Без конца и без краю мечта…
Ахматова была уже знаменита, — по крайней мере в том смысле знаменита, в каком Маллармэ, беседуя с друзьями, употребил это слово по отношению к Виллье де Лиль Адану: «Его знаете вы, его знаю я… чего же больше?» В тесном кругу приверженцев новой поэзии о ней говорили с восхищением. Гумилев, ее муж, на первых порах относился к стихам Анны Андреевны резко отрицательно, будто бы даже «умолял» ее не писать, — и вполне возможно, что тут к его оценке безотчетно примешались соображения и доводы личные, житейские. Не литературная ревность, нет, а непреодолимая, скептическая неприязнь, вызванная ощущением глубокого, коренного отличия ахматовского поэтического склада от его собственного. Признал он Ахматову как поэта, и признал полностью, без оговорок, лишь через несколько лет после брака. А «вывел ее в люди», — если такое выражение в данном случае уместно, — Кузмин, безошибочно уловивший своеобразие и прелесть ранних ахматовских стихов, как уловил это и Георгий Чулков, «мистический анархист», приятель и подголосок Вячеслава Иванова, когда-то рассмешивший пол-России вступительной фразой к большой, программной статье: «Настоящий поэт не может не быть анархистом, — потому что как же иначе?» Авторитет Кузмина был, конечно, гораздо значительнее чулковского. и главным образом именно он способствовал возникновению ахматовской славы. Помню надпись, сделанную Ахматовой уже после революции на «Подорожнике», или, может быть, на «Анно Домини», при посылке одного из этих сборников Кузмину: «Михаилу Алексеевичу, моему чудесному учителю». Однако к концу жизни Кузмина, в тридцатых годах, Ахматова перестала с ним встречаться, не знаю, из-за чего.
Анна Андреевна поразила меня своей внешностью. Теперь, в воспоминаниях о ней, ее иногда называют красавицей: нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание. Позднее в ее наружности отчетливее обозначился оттенок трагический: Рашель в «Федре», как в известном восьмистишии сказал Осип Мандельштам после одного из чтений в «Бродячей собаке», когда она, стоя на эстраде, со своей «ложноклассической», «спадавшей с плеч» шалью, казалось, облагораживала и возвышала все, что было вокруг.
Читать дальше