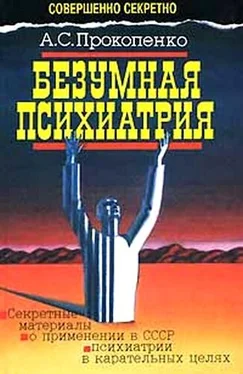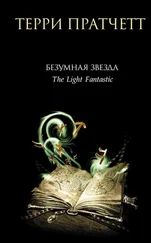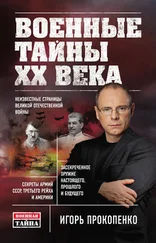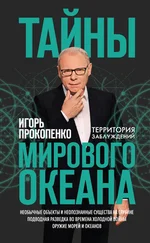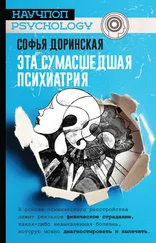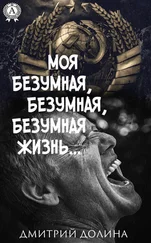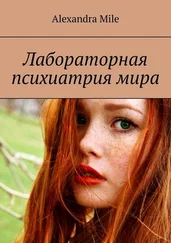Бывший главный психиатр всего СССР А. Чуркин как-то заявил журналисту Л. Елину, что в своей практике не удосужился встретить заведомо здорового человека, которого бы врачи-психиатры признали психически больным, да еще за политические убеждения. Ну были мелкие осечки, когда в ряде случаев психиатры переусердствовали (то есть допустили так называемую гипердиагностику). На нормальном языке это означает, что выраженность, тяжесть имевшихся психических расстройств была меньше, нежели оценивалась некоторыми врачами-экспертами. Так с кем не бывает! Даже если вторгаешься в заповедную душевную сферу Божьего создания.
По мнению Чуркина, врач-психиатр тоже человек и не всегда может противиться общественному сознанию.
Еще чуть позднее, в 1991 году, все тот же Чуркин утверждал, что в процессе глубокой перестройки психиатрической помощи в СССР обнаружить достоверные факты использования психиатрии в политических целях ему не удалось. Единичные же факты нарушений правил первичного обследования больных, госпитализации в психиатрических стационарах — это вовсе не политика, а издержки производства.
Логика рассуждений Чуркина достойна Книги Гиннесса. Он считает: замечательно, что в СССР антисоветская пропаганда и антисоветская деятельность относились к разряду особо опасных преступлений. И вот почему. Все лица, привлекавшиеся в этой связи к уголовной ответственности, направлялись на судебно-психиатрическую экспертизу, что и позволяло среди них выявлять психически нездоровых субъектов и тем самым ограждать наше «прекрасное» социалистическое общество от больных людей на их же благо. Ну что вы хотите от советских врачей-психиатров, воспитанных на идеях марксизма-ленинизма! Можно ли было, по их мнению, не считать шизофрениками тех, кто чрезмерно увлекался философией да еще предлагал собственные концепции переустройства государства?
По Чуркину, советская власть и психиатрия рука об руку работали над нравственным и душевным обновлением некоторых членов общества: первая выявляла людей с политическими вывихами в мозгах, а вторая проявляла гуманность, спасая их от тюремных и лагерных невзгод, и терпеливо врачевала их психику.
А вот почитайте высказывания еще одного златоуста из когорты психиатров-«сербцев», В. Котова: «Те, кто обвиняет нашу психиатрию в прошлых политических злоупотреблениях, подменяют понятия «приговор» и «принудительное лечение». Считается, что, если бы психиатр не направил того, кто в прошлом назывался политобвиняемым, в больницу, его бы освободили, забывая, что ему инкриминировали так называемые политические статьи УК.
Получалось так: когда деяние доказать было легко, тогда особой нужды в психиатрах не испытывалось — человека можно было просто осудить по соответствующей статье. Когда же обвинение выносилось с натяжкой, а органы безопасности всячески старались изолировать этого человека от общества, тогда его отправляли на судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы по возможному признанию его невменяемым применить к нему принудительные меры медицинского характера.
Спросите, к примеру, Буковского, где ему было лучше — в психиатрической больнице или в лагере?» (Правда. 1994.14 июля).
В. Буковский на этот вопрос ответил недавно своей книгой «Московский процесс». Я рекомендую «заступнику» бывшего диссидента внимательно почитать главу «Психиатрический ГУЛАГ», который вполне мог быть построен в 90-е годы, не развались СССР в одночасье в Беловежской пуще.
Если верить «откровениям» вышеупомянутых авторов, то вырисовывается прелюбопытнейший исторический парадокс: главный центр судебно-психиатрической экспертизы, кормившийся на деньги своего грозного работодателя — КГБ, используя мало кому понятную профессиональную специфику, на свой страх и риск мужественно противостоял рыцарям плаща и кинжала, уводя от заслуженного наказания ярых контрреволюционеров, объявляя их невменяемыми. Таким образом, бывшие «сербовцы» не порицания заслуживают, а горячей похвалы.
Жаль только, что основоположник карательной психиатрии, маститый академик Г. Морозов, нынешний простой советник ГНЦ им. Сербского, а по сути что ни на есть настоящий его директор, не посоветовался с Котовым и Чуркиным и несколько разрушил нарисованную ими почти идиллическую картину советской судебной психиатрии. Никогда прилюдно не распространявшийся о своих закулисных неприглядных делах эксперта-психиатра, он вдруг решается бросить лукавый взгляд на историю карательной психиатрии: «Человек, душевнобольной, написал листовку, в которой критиковал существующий строй. Был привлечен к уголовной ответственности и направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. Признанный невменяемым, в соответствии с существовавшей инструкцией, направлялся на принудительное лечение в спецпсихбольницу. Если это называть карательной психиатрией, то да, так было, но психиатры сделать ничего не могли» (Совершенно секретно. 1996. № 1). В общем, тривиальное дело, и что в нем трагического находит корреспондент уважаемого ежемесячника?
Читать дальше