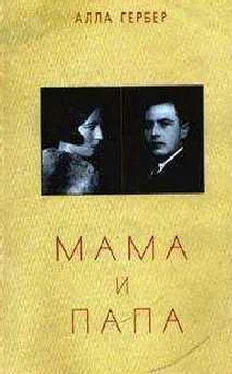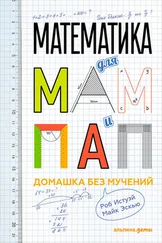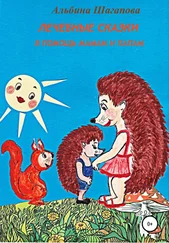В стенах дома бабушка жарит гренки, здесь пахнет уютом, счастливое детство дышит в гнезде, свитом над пропастью. Это — в стенах...
А за стенами — там, на легендарной Дерибасовской, другую бабушку, привязанную к телеге, вот-вот поволокут в гетто, а за телегой побегут ее дочери, которые останутся в Одессе, потому что не смогут бросить мать, а за ними — их дети, талантливые мальчики, победители математических олимпиад и чемпионы шахматных турниров. Они все погибнут в гетто. И их московская сестра, вместив катастрофу, найдет в себе силы сказать, что именно в этой страшной ситуации надо суметь жить дальше и быть счастливой.
Еще и "пожалеет обидчика". Толкнувшего — простит.
Я ищу в очерке Аллы Гербер полюс ненависти. Ну, вот хотя бы фигура того управдома, что "уплотнился" в их "жилплощадь", а потом написал на ее отца донос и упек того в лагерь, а сам победоносно пел по вечерам: "Ой, Галина, ой, дивчина"... Судьба отомстила ему: он лишился рассудка; по ночам он забирался под кровать и все прятался от каких-то преследующих его врагов... Заметьте: судьба ему отомстила, но автор — не мстит, и сквозь то, что рассказывает нам автор, просвечивает не только окончательная подлость несчастного, но и первоначальная беда его. Значит, и за ним гнались, и его подняли с родного места, так что всю последующую жизнь, вместо того, чтобы петь про дивчину в родной хате, хлопец мысленно бился под кроватью, ожидая своих мучителей.
Разница: схватив свой "кусок и угол", он так и не стал счастливым.
А тот, кого он упек, — был счастлив. Не согнулся и в лагере. Вернулся. Вырастил дочь.
Сквозь "родительскую идиллию" Аллы Гербер кровоточит время. Страшное время. Или, как она сдержанно говорит — "трудное время".
Читатели знают Аллу Гербер по пронзительным статьям о Холокосте. Ее общественный темперамент широко известен: его хватает и на политику. Где источник этой энергии?
Необязательно углубляться в века и тысячелетия — надо войти в ограду тихого кладбища, где покоятся московская учительница, всю жизнь преподававшая немецкий язык в школе, и специалист по сопромату, делавший в войну "Катюши", — надо постоять над ними молча, сотворив то, для чего ни у них, ни у их дочки, блестящей советской журналистки-шестидесятницы, долго не было слов. А потом слова нашлись и отворили боль.