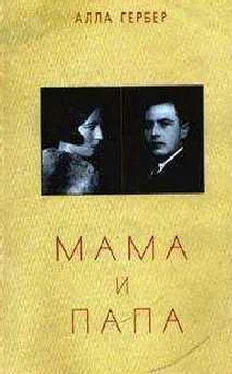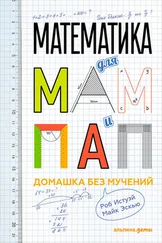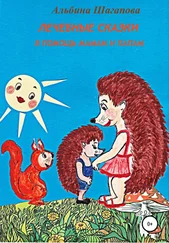...Этого старика я заметила давно, лет десять назад, не меньше. Он возникал будто из-под земли (или с неба — не знаю) и, не произнося ни слова, стоял некоторое время рядом, не нарушая, но как-то незаметно вторгаясь в мое уединение. Потом так же молча уходил. Иногда наши глаза встречались. В моих было недоумение, даже раздражение. В его — извинение, что помешал, и одновременно — уверенность, что иначе не мог, что он просто обязан мне помочь, хотя я его об этом не просила.
"Ничего, ничего... Вы, пожалуйста, не беспокойтесь..." — тихо говорил старик.
Я заранее знала, что он скажет дальше, знала, что отвечу, и малодушно опускала глаза. Наступала тягостная пауза, и тогда он не настойчиво, а скорее робко спрашивал: "Вам не нужна молитва?" Это его хлеб, его на этом кладбище святое дело, и грех было отказывать ему. Но, колеблясь, мучаясь, чувствуя, что обижаю его (и не только его), я все-таки отрицательно качала головой. Старик не уговаривал. Он учтиво приподнимал шляпу, которую не снимал ни летом, ни зимой, кланялся — сначала могиле, потом мне — и, выбрасывая вперед палку, твердым шагом слепого, знающего каждую точку, каждый бугорок на дорожке, удалялся. Нет, он не был слеп, но ходил как слепой, запрокинув голову назад, глядя куда-то далеко вперед. Я смотрела ему вслед — на его прямую спину, на запрокинутую седую, в черной шляпе, голову, на развевающийся, всегда расстегнутый белый плащ.
Он часто подходил ко мне. С годами, не дожидаясь вопроса, я поспешно бормотала: "Спасибо, не надо". Он приподнимал шляпу и молча уходил. Иногда мне хотелось догнать его, остановить, объяснить, почему вот уже несколько лет я так упорно отказываю ему. Но если бы я могла это объяснить! Да и не нужны были ему мои объяснения — нет так нет. И вот однажды, когда он опять подошел и был в тот день, как показалось, особенно замерзшим и неприютным, я начала что-то быстро и несвязно бормотать: мол, понимаете, мои родители... ну, вы понимаете... Он поднял руку, как будто хотел остановить этот неуместный поток слов. Ему и так все было ясно и, наверное, не хотелось, чтобы я доводила до конца кощунственную для него мысль. Но меня уже несло — я говорила о вере, о боге, о том, что у каждого он свой, что...
"Разве я спорю, — грустно улыбнулся старик. — Разве я на чем-нибудь настаиваю... Я очень уважаю ваших родителей и вашу веру..." — "Мою веру?" — "Дай вам Бог, — сказал он. — Пусть у вас будут большие радости, большая семья и очень маленькие неприятности... Дай вам Бог..."
На сей раз он резко повернулся и взмахнув палкой, быстро пошел по дорожке, и полы его плаща развевались, как паруса на сильном ветру, хотя было тихо и шел мелкий дождь.
Через несколько месяцев я спросила у тетки Полины: "А где старик?" — "Лазарь, что ли?" — "Может, и Лазарь, я не знаю, как его звали". — "Лазарь... Я видела, он всегда к вам подходил. Небось жмотничала, не брала у него молитву. — Она сказала это так, как будто я отказывалась от предлагаемого мне товара. — Хороший был старик, только бедный очень — работать не умел... Вон Изю видела, тоже из ваших. Так тот за горло возьмет, а от своего не отступится — даже одному православному свою молитву читал, да так душевно, что все плакали. Лазарь не такой, дурной ваш Лазарь, но мужик хороший. Помирает он и, видать, не выкрутится... Мы тут с бабами денег ему собрали, апельсинов купили, курочку... Он курицу любил, только ел редко... Изька ему, бывало, кричит:
"Вы, Лазарь, идиот, вы не умеете обращаться с клиентом!" И орет, визжит, по вашему ругается. Лазарь ему ни слова. А мне потом говорит (мы с ним вроде как подружки были): "Товарищ Поля, не надо обижаться на Изю, у него умерла единственная дочь, и он совсем один на этой замечательной земле..." А у самого ни кола ни двора — комнату родственнице какой-то отдал, а сам у Катьки в подсобке спал".
Больше я его никогда не видела. Рассказывали, когда умирал — просил похоронить на другом кладбище. Изя, которому недавно исполнилось восемьдесят лет, плакал и говорил всем, что этот идиот просто не захотел, чтобы он, Изя, прочел над его могилой молитву. Коллектив тоже обиделся на старика: помогали ему, кормили, никогда не обижали — и вот нате вам, нехорошо получается. Но мудрая тетка Полина все поставила на место. Назвав товарищей по работе своими именами, мне неизвестными, она, как утверждают, впервые в жизни разревелась, потом закурила "Беломор" и сказала, как отрезала: "Человек, можно сказать, полжизни на нашем кладбище прожил, так неужели ему нельзя хоть на том свете поменять место жительства..."
Читать дальше