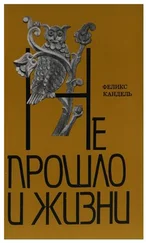Удивительный «Фрейлехс»!
«Свадебный карнавал в двух актах».
Спектакль-мемориал,
Траурная музыка в начале: чистая, строгая.
Семь свечей в темноте и одинокая звезда.
Лица, освещенные зыбким пламенем.
Неподвижные силуэты.
Скорбные глаза.
Обряд поминания.
Память о еврейских жертвах во все времена.
Неистощимая вера в будущее.
Это был веселый спектакль. С песнями. С плясками. Стремительно разворачивалась в танце счастливая свадьба!
Вся Труппа играла Фрейлехс!
«Мы соберем всю тоску в мире и сотворим из нее любовь!»
Уже актеры догадывались о закрытии театра. Уже отдергивался мрачный полог, за которым — мрак, ужас, бездонная пустота вселенского страха. Но спектакль шел. Труппа играла веселый карнавальный «Фрейлехс».
Горели поминальные свечи. Вздыхала невеста. Рыдала мать. Через силу острил неунывный свадебный бадхен. Стонали скрипки в оркестре. Актеры прощались с театром, друг с другом, с единственной своей профессией, ради которой стоило жить. Шел последний спектакль Московского еврейского театра.
Спектакль-прощание. Спектакль-мемориал. Память о Михоэлсе, Зускине, Маркише, Бергельсоне, о друзьях-актерах, о самом себе.
«Выпьем за тех, кого нет! Выпьем за радости, которые будут!»
На сцене лихо отплясывали зажигательный танец «Фрейлехс».
«Гасите свечи, задуйте грусть!..»
В зале было пусто и жутковато. Занавес закрывался медленно. На этот раз — навсегда…
«Навек, навек, навек, навек, навек… »
«Вам кажется, я плачу? Я не плачу…»
Потом они еще приходили в театр.
Висел на улице репертуар на следующий месяц, подметали сцену уборщицы, следил за курящими пожарник, но касса уже не продавала билеты.
Актеры бродили по фойе, собирались малыми кучками, шептались, как на похоронах, пугливо жались по стенам. (На этих стенах висели когда-то панно Шагала. Во время борьбы с формализмом панно сняли, свернули в трубочки, увезли неизвестно куда. Кто их потом видел?)
Наконец, им объявили приказ о закрытии. «Идеологические ошибки, потеря зрителя, нерентабельность…»
В театр они входили еще актерами, из театра выходили уже зрителями.
Актрисы рыдали в гримуборных.
Костюмеры, прощаясь, оглаживали на плечиках театральные костюмы.
Гардеробщики и уборщицы сговаривались о переходе в другой, более удачливый театр.
Получили последние деньги, постояли последний раз на сцене, пошли по магазинам покупать детям новогодние подарки. Дети — они не должны тосковать. Дети — они должны радоваться.
Старый год закончился.
Начинался год новый, беспросветный тысяча девятьсот пятидесятый…
И запылал во дворе костер.
Пламя до небес!..
Чужие, равнодушные люди, грохоча сапогами, лениво, безо всякого удовольствия швыряли в огонь дорогие реликвии. Фото. Афиши. Книги. Рецензии. Макеты декораций. Летали по воздуху черные хлопья взмен традиционного подушечного пуха. Все остальное было, как на обычном, старорежимном погроме.
Все сгорело, обуглилось, осыпалось пеплом, было выметено на свалку. Сверху лег чистый январский снежок, стыдливо прикрыл грязные следы.
Мебель свезли в другие театры, костюмы — в особую прокатную организацию, которая обслуживает любителей. И где-то в студенческом клубе, в наскоро прихваченном нитками еврейском лапсердаке кто-то уже отчаянно отбивал каблуки под украинский гопак…
Так закрылся Московский ГОСЕТ — государственный еврейский театр.
Без некролога и траурной музыки. Без почетного караула и доброго слова вослед.
А за ним тихо, по одному, огоньками в непроглядной ночи гасли по стране еврейские театры. А было их до того много:
Минский еврейский театр,
Киевский еврейский театр,
Одесский,
Крымский,
Харьковский,
Житомирский разъездной,
Биробиджанский,
Бакинский,
Ташкентский…
И в каждом — актеры. В каждом — режиссеры. Школы, традиции, свой зритель.
Да еще любительских театров было — не счесть!
Было — и не стало…
«Вам кажется, я плачу? Я не плачу.
Я вправе плакать, но на сто частей
Порвется сердце прежде, чем посмею
Я плакать, — Шут мой, я схожу с ума!»
«Как больно бьется сердце! Тише, тише!»
И разбрелись актеры кто куда.
Кто как сумел, кому где повезло.
Единицы попали в русские театры. Считанные единицы.
Остальных трудоустроили в театральные мастерские.
Читать дальше
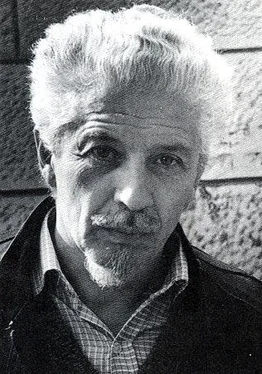


![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 4] (Уничтожение еврейского населения, 1941 – 1945)](/books/184718/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 4] (1939 – 1945 гг.)](/books/184754/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)