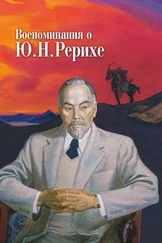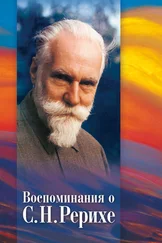На прием я не ответила, потому что жила в подвале, куда пригласить Чуковских не решилась, хотя у нас всегда толкалось много народу и было превесело.
4
Грозовые тучи, нависшие над Европой тех лет, описывать не моему перу. Скажу только словами Льва Толстого: «Настоящая жизнь людей — с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей — шла как и всегда».
Сидя как на вулкане, мы трудились с поистине «радостной энергией», обитая на таких высотах патриотизма, о которых наши дети и внуки знают только понаслышке. Мы жили в бедности, не тяготясь ею, не допуская мысли, что можно жить полнее, чище, веселее нашего. Заботы о житейском не тревожили нас. Но, довольствуясь малым, мы все же следили за собой: тщательно укладывали наши, тогда хорошие, косы, форсили хорошо разутюженными ситцами, чуть-чуть подкрашивали губки и вообще перестали быть похожими на предыдущее поколение советских женщин, с их папахами, сапогами и мешковато сидящей одеждой.
Детгиз мы считали «главным домом» своей жизни. Это издательство было средоточием работы, дружбы, веселья. И то сказать — в одной редакции Маршак читает новые переводы с английского, поблескивая очками, придыхая, куря одну папиросу за другой. Где-то рядом раздается «провидческий» голос Пастернака. А в коридоре молодой Кассиль — этакая элегантная жирафа — сыплет анекдоты один смешнее другого. В «Затейнике» Греголи показывает фокусы — сбежалось множество народу, в редакции невпротолочь. А после фокусов отв. редактор «Затейника» Вася Козачинский пытается проникнуть в тайны танца, чудовищно описанного неопытным пером автора («отставить левую заднюю ногу»)… Вася отставляет ногу, приставляет к ней другую, уморительно размахивая короткими ручками, потом делает какие-то кенгуриные прыжки, и… мы уже не в силах более смеяться, умоляем: «Перестаньте!»
А вот и Андроников! Ну, тут уж пиши — пропало! Сколько живых и когда-то живших соединяются в одном великом лицедействе!
А Генрих Эйхлер — «чистейшей прелести чистейший образец»! (Как был тронут Корней Иванович, прочтя в моей книжке «Окна в сад» посвящение Эйхлеру.) Генрих мог остановить тебя в коридоре и:
— А помните, Лена, у Сумарокова:
Тщетно я скрываю сердца скорби люты,
Тщетно я спокойною кажусь:
Не могу спокойна быть я ни минуты,
Не могу, как много я ни тщусь.
И как это гениально кончается, помните?
Так из муки в муку я себя ввергаю;
И хочу открыться, и стыжусь,
И не знаю прямо, я чего желаю,
Только знаю то, что я крушусь…
Читая, он смотрит проникновенно глаза в глаза, и его прекрасное лицо светится.
А то Корней Чуковский шумно вваливался в редакцию и рушился на колени перед редактором-редакторшей, молитвенно сложив руки или подняв их горе, заунывно говорил:
— Напечатайте слабые вирши мои, а то пропаду с женой и детишками… Ох!
А мы пропадали от смеха.
И все это ничуть не отвлекало нас от работы. Напротив, вовлекало в нее.
В 1938 году Детгиз начал подготовку однотомника Шевченко к его юбилею, я была приглашена (вот чудо-то!) на этот духовный пир. Особенно я радовалась тому, что главным редактором однотомника оказался Корней Иванович.
Работать с К. И. было истинное наслаждение: ни напора, ни указки, ни насмешки, ни хмурого взгляда. Поэтому тягчайший груз, который тащили переводчики, был им не то что не тяжел (конечно, тяжел), но несли они его охотно, радуясь беседам с редактором, беседам, которые выходили далеко за пределы темы.
От моих переводов Корней Иванович, как мне думается, не был в восторге, оценив только некоторые из них: отдельные строфы из «Батрачки», «Протоптала стежечку…», «Как на зореньке да ранешенько…», «Я в орешничек ходила…», «Застонала кукушечка…» и другие. Однако на торжествах в Киеве, пышно-многолюдных, мне дали слово, и я читала с высокой трибуны «Как на зореньке…».
В антракте Корней Иванович обнял меня и весело, оглядываясь по сторонам, сказал:
— Дивитесь, яка гарна молодиця!
Не хочу петь акафистов: я отлично видела Чуковского, можно сказать, насквозь. Он мог быть пристрастным, несправедливым, даже вероломным, но он был целой страной! А где найдешь страну, в которой было бы все одинаково прекрасно! Как всякий крупный человек, он не был ангелом во плоти. Нет, нет, ангелом он не был.
5
А потом — война.
Помню, в эвакуации (мы жили под Свердловском — в Красноуфимске) ехала я однажды из района. Было холодно, но не темно — пушкинская луна пробиралась «сквозь волнистые туманы»; сани то и дело ныряли в ухабы и выныривали из них, обдавая нас снежной пылью. Легонько кружилась голова, как на ярмарочных качелях. Возница-подросток все время молчал. Молчала и я. Вдруг в этом печальном безмолвии раздался чистый мальчишеский голос:
Читать дальше