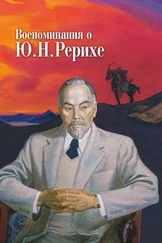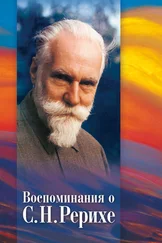Чуковский обнимает меня той рукой, в которой цветы. В другой он держит мою книжечку. Выходим на улицу. Красные цветы лежат на моем плече.
И уже против похожего на розовую мечеть кинотеатра «Хива» он начинает встречать знакомых. Вот, прихрамывая, идет худощавый человек с бледным лицом.
— Ташкентский поэт Владимир Липко! — на весь перекресток объявляет Чуковский. — Сейчас наш дорогой Липко прочитает нам с Берестовым стихи про Виктора Гюго. Мне почему-то кажется, что Берестов любит автора «Отверженных».
Стоя на перекрестке в тени дерева, Липко отрешенно читает:
Один вскричал: — Прощай, Валерия!
— О, родина! — шепнул другой.
О, сколько детских слез поверил я
Тебе, тебе, Виктор Гюго!
— Молодец! — одобряет Корней Иванович. — Все слова на месте. Если б один шепнул, а другой вскричал, вышла бы фальшь. Прочтите нам эти стихи еще раз!
Потом, за много лет общения с Чуковским, я убедился: его похвала — это не все. Возможно, он лишь поощряет вас или не хочет обидеть. Но если он просит снова и снова читать ту же вещь, значит, стихи нравятся.
Липко не успевает прочесть второй раз. Улицу по диагонали пересекает невысокий седой человек в голубой рубахе.
— Лежнев! — восклицает Чуковский. — Автор «Правды о Гитлере»!
Я читал эту книгу и даже делал из нее выписки.
— Берестов читал ваш замечательный антифашистский памфлет! — обрадовал Лежнева Чуковский.
Тихо возникает плотный человек с большими сияющими глазами и с орденом на лацкане пиджака. Это Лев Квитко.
Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят,
теплой волной проходят в памяти смешные стихи из моего детства. Орден на уровне моих глаз, и пока Квитко беседует с Чуковским, я впервые в жизни получаю возможность так близко созерцать орден да еще полученный за смешные и радостные детские стихи.
И вот мы опять вдвоем, Чуковский время от времени замедляет шаг, чтобы я поспевал за ним, и продолжает изучение моей книжицы:
Ужасен кровью ты, двадцатым век!
Война кипит по всей земле обширной.
Но в бедствиях велик настолько человек,
Насколько незаметен в жизни мирной.
— Не пойдет! — категорически заявляет Чуковский.
Почему не пойдет? Не напечатают? Но я пока не собираюсь печататься (Лермонтов тоже не спешил издаваться). Корней Иванович ничего не объясняет, а меня уже гложет смутный стыд за эту строфу. Ведь ее можно понять и так: беда возвеличивает человека, а радость делает его ничтожеством. Да и вся строфа какая-то книжная, надуманная.
— Вот где начинаются стихи, — предлагает Чуковский:
В бой провожая сына своего,
Как горестно седая мать рыдает,
Но за святую Родину его
Дрожащею рукой благословляет.
— Ну-ка, ну-ка, — волнуется Корней Иванович. — Куда он поведет стихотворение?
Как детям тяжело любимого отца
Утратить навсегда еще в начале жизни,
Но и они напутствуют бойца:
«Иди, отец, и верен будь отчизне!»
— Именно туда, куда надо, — с удовлетворением сообщает Чуковский словно бы опять не мне, а какой-то невидимой аудитории. — Как это верно! Взрослый сын, молодой отец уходит на смерть. И остаемся, — Чуковский наклоняется ко мне, — мы с вами, дети и старики.
И он идет, покинув милый дом…
Корней Иванович несколько раз трубным голосом повторяет:
— «И он идет!» Бог мой, он и это умеет! «И он идет!»
Ему интересно, кто сейчас мой самый любимый поэт. Им оказывается Джордж Гордон Байрон в переводах П. Козлова и О. Чюминой. (Не могу понять, почему я не назвал Лермонтова. Вероятно, по той же причине, по какой иногда стесняются назвать имя любимого человека).
— Он обращает внимание на переводчиков! — ликует Чуковский. И рассказывает, что в 1906 году, когда его, юного редактора сатирического журнала «Сигнал», должны были упрятать в тюрьму, Чюмина была в числе тех, кто внес за него крупный денежный залог. — Да, Чюмина, Чюмина, — повторяет Корней Иванович, листая мою тетрадку. (Я-то думал, что следую великому Байрону, а на самом деле подражал еще и П. Козлову, и О. Чюминой, и Корней Иванович это углядел).
Чуковский спрашивает, кого из старых русских поэтов я знаю и люблю, читал ли я Ивана Козлова или, скажем, Баратынского.
— Да, я их читал, — складно, как на экзамене, отвечаю я. — Отдельные стихи Евгения Баратынского и Ивана Козлова я знаю по книге «Поэты пушкинской поры» с комментариями Орлова и Цезаря Вольпе.
— Он прирожденный литератор! — констатирует Чуковский для своей невидимой аудитории. — Он читает комментарии! Он знает, кем они сделаны! — И победительно озирается: теперь аудитории нечего возразить.
Читать дальше