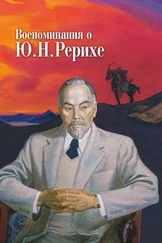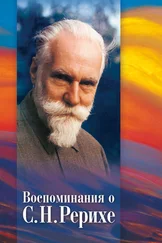Взволнованно, с каким-то внутренним страданием — о Пастернаке: «Он не был сложнее, чем сама жизнь, и прост был, как в чем-то основном пряма и проста она». Корней Иванович в это время работал над вступительной статьей к сборнику стихотворений Б. Пастернака и говорил, что она дается ему с трудом, был недоволен ею, раздражен, взволнован.
— О природе после Тютчева и Фета никто не сказал с такой покоряющей силой и праздничной радостью, как Пастернак. — И прочитал:
И так неистовы на синем
Разбеги огненных стволов,
И мы так долго рук не вынем
Из-под заломленных голов,
И столько широты во взоре,
И так покорно все извне,
Что где-то за стволами море
Мерещится все время мне.
Любил поэзию H. Заболоцкого, писал о «благоговейной любви» к нему самому, поэту и человеку. «Я лично счастлив, что знал его — и имел много случаев восхищаться его душевной красотой» (письмо 18 февраля 1964 года).
Виделась я и переписывалась с Корнеем Ивановичем в последние годы его жизни. Он не был ни розово-благодушен, ни «постоянно ясен». Однажды он сказал со страстной силой, со слезами: «Рождение плоти, ее расцвет, ее умирание, ее неизбежный распад… Ужасно, ужасно!» Я думаю, что это был не просто страх смерти, ощущение ее близости, столь естественное для старого человека. Внутренний протест, отвращение, ужас вызывала в нем эта предопределенная неизбежность конца, к которой он не мог и не хотел относиться с пушкинским спокойствием. Как-то дал мне Баратынского и попросил прочитать «Осень». Он лежал, прикрыв глаза (ему в тот день, вероятно, вообще нездоровилось, но он как-то перемогался), с лицом важным и строгим, непонятным и пугающим. Я несколько раз останавливалась, но он просил читать дальше и вдруг сказал:
— Гениальное стихотворение, но вам едва ли понятное. Почему? Потому, что такое рождается, когда подводишь итоги и прощаешься с жизнью. Слышите, как медленно, как обреченно движется стих:
И примешь ты, как лучший жизни клад,
Дар опыта, мертвящий душу хлад…
Зима идет, и тощая земля
В широких лысинах бессилья…
И все-таки радостное, победное жизнелюбие не оставляло его и в эти годы. «Не люблю стариков (и старух!), — с каким-то веселым вызовом писал он. — Да здравствует молодость!»
После Чуковского осталось много прекрасных книг, но думаю, что каждый из сотен людей, соприкоснувшись с ним, унес с собой и частицу его самого. Нельзя соприкоснуться с добротой и талантом — и уйти пустым.
И кто знает, может быть, живое воздействие личности Корнея Ивановича на многих и многих людей окажется не менее важным, чем оставленные им статьи и книги.
1972
Ольга Грудцова
ОН БЫЛ НИ НА КОГО НЕ ПОХОЖ
Обстоятельства сложились так, что примерно с 1957 года по 1962-й я имела возможность наблюдать Корнея Ивановича Чуковского (которого знала с детских лет) в его домашней обстановке, видеть, как он работает, слушать его суждения о литературе, о людях… К сожалению, я не вела летописи его дней хотя бы в течение этого краткого времени. Но кое-что записала, запомнила.
Быстрая смена мыслей, чувств, настроений, необузданность в гневе, некоторая даже сумасбродность совмещались в Чуковском со строгой дисциплинированностью, когда дело касалось работы. Едва ли не самым большим преступлением считалось помешать ему работать. Никто не имел права войти к нему в кабинет, когда он писал. Работоспособность его, несмотря на возраст, была поразительна. Свободное от занятий время он считал пропащим. И часто повторял, что для него ничего в жизни не существует, кроме работы.
— Я рабочая машина.
В доме был четкий распорядок дня. Вставал Корней Иванович в шесть часов утра и тотчас садился за письменный стол. В десять часов он спускался вниз из своего кабинета, расположенного на втором этаже дома в Переделкине (где он жил последние годы постоянно), и принимал душ. При этом певучим голосом читал стихи. После завтрака на очень короткое время ложился отдыхать.
А иногда, позавтракав, не вставая из-за стола, мы начинали играть в «словечки». Кто-нибудь придумывал слово, писал первую и последнюю букву, а между ними черточки по количеству букв, которые надо было отгадать. Того, кто ошибался, «вешали», изображая на бумаге «виселицу». Корней Иванович, назвав неверную букву, сердился и говорил:
— Это я нарочно сказал. Хотел посмотреть, как вы будете виселицу рисовать.
Однажды с нами сел играть Николай Корнеевич и мгновенно отгадал все слово. Придумали другое — он снова назвал все буквы. Тогда Корней Иванович встал из-за стола.
Читать дальше