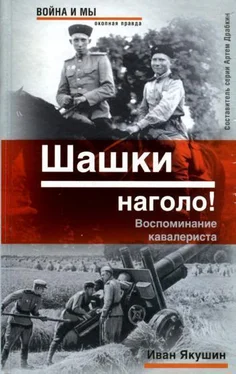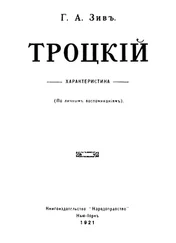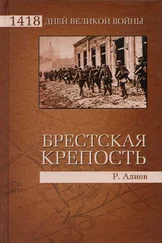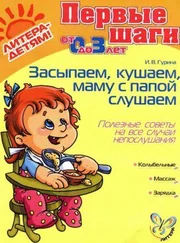В избе на полу лежали вповалку конники ранее прибывшего сюда эскадрона. Было здесь тепло и сухо, но воздух такой густой, настолько спертый, тяжелы, что хоть топор вешай. С русской печки свешивались две детские головки. Глазенки детей с любопытством разглядывали спящих бойцов. Сердобольная хозяйка предложила мне раздеться, снять сапоги и просушить все на печке. «Да И сам полезай на печь к ребятам, пока все просохнет, там согреешься и поспишь». Я не заставил себя долго ждать и, перебравшись через спящих, в два прыжка юркнул на печь. Блаженству, которое я испытал, согреваясь на печи, не было предела. Холод приятно выходил из моего промерзшего тела. Согревшись, я сразу уснул. Разбудил меня коновод Кучмара, позвавший на обед. Завтрак я проспал. В хате было пусто, солдат уже не было, они разошлись по эскадронам и готовились к новому маршу. Обмундирование мое подсохло, и его, теплое от печи, было приятно надевать на отдохнувшее тело. Умывшись и плотно пообедав на батарейной кухне, я готов был к новым дорожным испытаниям. Дождь перестал совсем, и легкий морозец подсушил дороги.
После нескольких переходов мы пошли дорогами Псковщины. Под вечер на одном из дневных переходов, на марше, по колонне передали: слева от дороги могила Матросова. Весть о подвиге А. Матросова к этому времени облетела все войска. С группой бойцов мы бегом, чтобы не отстать от полка, направились в указанном направлении. Недалеко от дороги, на небольшой голой возвышенности, одиноко возвышался, наскоро оборудованный могильный песчаный холмик. После героического подвига А. Матросова (23.02.43) прошло не более девяти месяцев. Время было тяжелое, и стране, и населению ближайших сел было не до обелисков героям.
Об этом страна не забудет в послевоенные годы. Постояв у могилы героя, своим телом закрывшим амбразуру вражеского дзота, мы бегом бросились догонять батарею, удалившуюся от нас на порядочное расстояние.
Где–то позади осталась деревня Чернушки, Великие Луки, а впереди меня ждали неизвестные бои. Какие–то они будут? В начале .нового пути, в новой обстановке, некоторое время находишься еще под впечатлением старых своих связей, друзей и товарищей. Чем больше отдаляешься от них по времени, и расстоянию, тем чаще и чаще начинаешь думать о том, что впереди, пока эти мысли полностью не овладевают тобой, и тогда старые связи уходят в далекое прошлое.
Со старого моего места службы, 497–го армейского минометного полка, по–прежнему не было вестей. Я знал только, что полк участвовал в освобождении Киева, за что был удостоен звания «Киевский». И только спустя сорок лет после войны из письма бывшего командира взвода управления 4–й батареи 497–го минометного полка, Артеменко В. М., я узнал некоторые подробности о дальнейших действиях полка после 16 августа 1943 года, когда полк вышел на исходную позицию для прорыва долговременной обороны противника и когда я был ранен: «24 августа, после продолжительной артподготовки оборона противника была прорвана, и полк участвовал в освобождении: Шостки, Прилуки, Конотопа, Остера и вышел к Днепру, севернее Дымеры (24 сент.). Участвовал в освобождении Киева, получил звание «Киевский» и был награжден орденом Красного Знамени. Но никто из полка наград не получил (кроме комполка Молчанова), так как замполит полка угодил вместе со всеми наградными документами к немцам под Коростенем …
Там много наших ребят погибло, в том числе и комбат 1–й батареи (после моего ранения), Ануфриев. Он попал вместе с начальником дивизиона разведки и командиром отделения связи 4–й батареи и связистом в один двор, куда направился обоз немцев. Ануфриев стал во дворе за калиткой, а остальные спрятались в сарае и на чердаке, когда немцы вошли во двор. Ануфриев в упор застрелил шестерых немцев, а потом и себя. Остальные дождались ночи на чердаке и ночью пробрались к своим:
Там, в Коростене, похоронены и младший лейтенант Карпашко Иван и другие наши ребята полка. После Коростеня полк уже в составе 1 3–й армии освобождал: Н. Волынский, Корец, Костополь, Луцк, Дубно, Кременец. (За него полк был награжден орденом Суворова IIстепени.) Вел бои под Бродами в апреле 1944 года и далее».
Мы прибыли на 1–й Прибалтийский фронт. До 20 октября он назывался Калининским фронтом. В состав 1–го Прибалтийского фронта с начала ноября 1943 года вошла и наша конно–механизированная группа в составе 3–го гвардейского кавкорпуса и 5–го мехкорпуса. В составе этой КМГ мы начали наше участие в боях в Невельской горловине.
Читать дальше