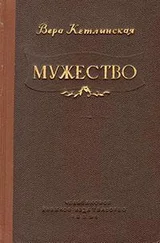Через пятнадцать минут она все же поднялась на свой чердак и обняла Наташу.
- Проводила?
Аня быстро кивнула и спросила:
- Ты слыхала когда-нибудь элегию Масснэ?
- Это пластинка такая?
Аня склонилась над дырой, пробитой снарядом.
- Товарищ музыкант, вы здесь?
- Ну, здесь, - ответил ворчливый голос.
- Может, поиграете?
- Проводили?
- Ага.
Снаряды падали далеко. Аня выбралась через слуховое окно на крышу, села на теплое, нагретое солнцем железо. Отсюда, сверху, город был не таким, каким она привыкла видеть его, каким только что видела с моста, не прозрачным и легким, озаренным сиянием заката, а тяжелым, громадным, затаившимся. Мрачные тени уже легли между домами. Крыш еще касался скудный, догорающий свет, и в этом свете чернели провалы разрушенных зданий и рваные дыры от снарядов. Аня смотрела на раскинувшийся перед нею город с томящей нежностью и жалостью. Она улавливала его затрудненное, учащенное дыхание, как дыхание страдающего человека, - а может быть, это доносилось постукивание метронома из репродуктора? Все равно, у нее теперь нет ничего и никого, кроме этого города, и его судьба - ее судьба. Что бы ни было.
В ее мысли незаметно вплелась музыка. Это не была вчерашняя отчаянная жалоба, полная тоски. Смычок срывал со струн такие сильные, гневные и требовательные звуки, как будто не одна виолончель, а целый оркестр будил, гневался и призывал к бою. И вдруг - словно распахнулось окно в полузабытый, спокойный мир. Журчал ручеек, птицы встречали восход, спящий ребенок потягивался и раскрывал глаза, не знающие ни страха, ни горя разлуки...
Старый музыкант играл в своем разгромленном жилище, подняв взгляд к рваной дыре в потолке. Наверху, над домами, посвистывали снаряды.
Аня сидела, обхватив руками колени, вслушивалась в эти звуки и верила, что все будет именно так, как подсказывает музыка, и надо только собрать силы и выдержать, во что бы то ни стало выдержать до конца.
Июль 1942 г.





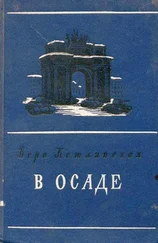


![Нора Адамян - Трое под одной крышей [Повесть, рассказы]](/books/204584/nora-adamyan-troe-pod-odnoj-kryshej-povest-rasska-thumb.webp)