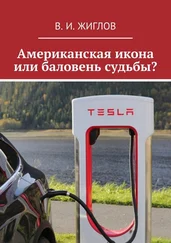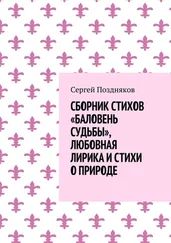31 октября Театр сатиры отправился на гастроли в Италию. Это была первая поездка этого театра на Запад, что ясно указывало на отношение властей к труппе – раз уж разрешили съездить в Италию (а раньше дальше Болгарии никуда не выпускали), значит, доверяют. Однако Плучек взял туда не всех – только тех, кто был с ним в хороших отношениях. Миронов к этому числу относился, да и как без него – все-таки премьер театра! К тому же Плучек был счастлив, узнав, что Миронов ушел-таки от Градовой, и хотел, чтобы его любимый артист хоть на время забыл о своих личных проблемах вдали от родины.
Эта поездка оказалась восхитительной, сродни той, что Миронов испытал год назад во время съемок «Итальянцев в России». «Сатира» показала «Клопа» на Венецианском фестивале «Биеннале», после чего отправилась в гастроли по стране. Театр побывал в восьми городах: Риме, Венеции, Сиене, Реджо-Эмилии, Парме, Капри, Генуе и Павии, где дал 13 спектаклей. И везде публика принимала их превосходно. Но счастье на этом не закончилось. 17 ноября гастроли в Италии завершились, чтобы продолжиться… в Чехословакии. Это хотя и была страна соцлагеря, однако считалась одной из передовых, не чета Болгарии (как шутили в те времена: «Курица не птица, Болгария – не заграница»). «Сатира» побывала в трех городах: Праге, Братиславе и Брно. Были показаны три спектакля: «Ревизор», «Маленькие комедии большого дома» и «Женитьба Фигаро». К слову, в те дни, когда театр гастролировал в ЧССР, на его сцене давали концерты артисты… чехословацкой эстрады во главе с Карелом Готтом.
Тем временем 22 ноября в главной газете страны «Правде» была опубликована статья, принадлежавшая перу Андрея Миронова. Она называлась «Дыхание зрительного зала». Приведу лишь небольшой отрывок из нее:
«Театр для меня – каждодневный труд. Здесь мои учителя, друзья, мое рабочее место. Без театра не мыслю свою жизнь. Судьба ко мне благосклонна – я сыграл немало ролей на сцене и на экране. И все же не скрою: мечтаю в полную меру сил поработать в жанре трагикомедии, который, думается, так много может сказать о характере современной человеческой жизни, ее сложностях и парадоксах…»
Был в той статье и пафосный пассаж, который демонстрировал лояльность автора к властям. Цитирую: «Всегда с каким-то праздничным чувством выхожу на сцену в спектакле нашего театра по пьесе А. Штейна „У времени в плену“, пронизанном романтической окрыленностью и героикой. Для меня встреча с образом Всеволода Вишневского по-особому ответственна. Когда знакомишься с его произведениями, дневниками, то не может не поразить открытость и раскованность чувств этого замечательного человека и писателя. В его жизни не было места унынию и бездействию, она вся была борьбой с бездуховностью, цинизмом, равнодушием. Это был человек несокрушимой веры в будущее, человек-боец, активный участник социалистического строительства, деливший с народом его радости и горести.
Такое восприятие мира – назовем его возвышенным или романтическим – отнюдь не достояние только эпохи революции или первых пятилеток. Оно органично для нашего общества, исповедующего философию исторического оптимизма, уверенно смотрящего в свое будущее…»
Всем, кто близко знал Миронова, этот пассаж буквально резал глаза и уши. Но они также понимали, что в главной газете страны без такого высокого стиля обойтись было нельзя – это была своего рода индульгенция, без которой выход статьи вообще мог оказаться под вопросом. А так все приличия были соблюдены: власти наградили актера званием «заслуженного» (кстати, не без помощи все того же Всеволода Вишневского из спектакля «У времени в плену», поскольку остальные роли Миронова власти считали несерьезными), а тот разразился на страницах их главной газеты пассажем про «общество, исповедующее исторический оптимизм». По большому счету это была правда, но в интеллигентских кругах публичное признание этого считалось моветоном. Плоды этого компромисса Миронов ощутил почти сразу после своего возвращения на родину: один из его друзей некоторое время упорно называл его не иначе, как «оптимист ты наш».
Но вернемся в Прагу, где проходят гастроли «сатировцев». Практически в первый же день пребывания там Миронов стал «клеить» Егорову. А почему бы и нет: как мы помним, вот уже месяц Миронов считался свободным человеком. Это произошло на торжественном приеме, устроенном в гостинице по случаю приезда знаменитой труппы. Миронов первым подошел к Татьяне и, как будто их роман даже не прерывался, предложил с вечера сбежать. Егорова согласилась не медля ни секунды. Они закрылись в мироновском номере и провели там восхитительную ночь, сродни тем, что они проводили в лучшие годы их некогда бурного романа. Миронов даже потом заявит, что Прага – их любимый город после Риги (в последнем, как мы помним, он познакомился с Егоровой в 66-м).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
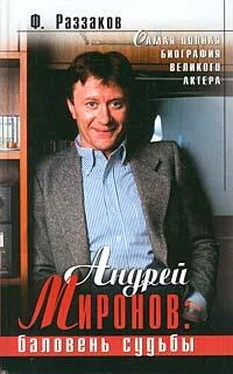

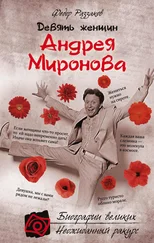
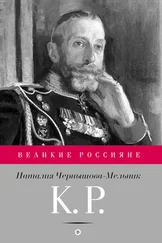



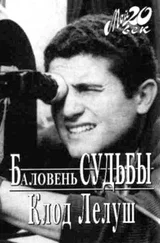
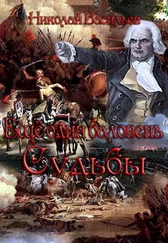
![Николай Васильев - Еще один баловень судьбы [СИ]](/books/415176/nikolaj-vasilev-eche-odin-baloven-sudby-si-thumb.webp)
![Николай Васильев - Баловень судьбы [СИ]](/books/430133/nikolaj-vasilev-baloven-sudby-si-thumb.webp)