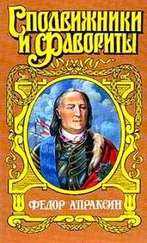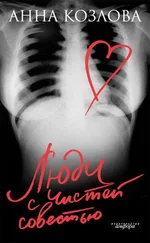Я понял, что касаться этой темы ему больно и как будто стыдно… Один раз он все же разоткровенничался немного.
— Три месяца лежал я в госпитале весь в бинтах и просил, чтобы меня застрелили. Просил сестер, раненых с руками, врачей. Когда я сказал об этом профессору, он мне ответил: «Стыдитесь, молодой человек. Пока я вам сделал эту сложную операцию, отнявшую у меня время… два часа времени хирурга на фронте! — в приемной, не дождавшись операции, умерли два человека. Понимаете? Стыдитесь…» — «Зачем же вы делали это?» — спросил я. — «Я спас вам руку… вот этот большой палец, этот указательный…» — и он показал мне пальцы на этой култышке. Я задвигал ими, «пальцы» болели, но все же двигались.
Зеболов говорил все это задумчиво, ровным голосом, что с ним бывало очень редко. Он помолчал немного, а потом продолжал:
— Стал я тренировать «пальцы», чтобы суметь взять пистолет и… застрелиться. И когда я уже мог кое–что делать, я достал его, стрелял, но неудачно… и, понимаете, профессор набил мне морду и сказал, что я подлец. Скоро опять началась война… теперь было бы уже смешно стреляться. Как это сказано — Прекратите,
бросьте!
Вы в своем уме ли?
Дать,
чтоб щеки
заливал
смертельный мел!
Вы ж
такое загибать умели…
Володя Зеболов перед войной был студентом Московского университета. Говорили, что учился хорошо и талантливо… И вот война.
Я впервые познакомился с ним перед вылетом в тыл врага, когда готовился к выброске и проходил разведывательную школу. Ее же со мною проходил и Зеболов. Затем я был выброшен в Брянские леса и позабыл о своем безруком товарище, с которым всего на несколько недель свела меня военная судьба.
Пробыв уже месяца полтора в партизанском крае и обжившись в нем, я однажды сладко спал на сеновале где–то километрах в четырнадцати от Брянска, вернувшись после полуночи с явки с брянскими железнодорожниками. Разбудили меня визгливые бабьи голоса, спорившие между собою:
— А я тебе говорю: немец его спустил. Я ж сама парашют бачила. От и шворку себе отрезала. Из нее хорошие нитки…
— Ну сама подумай, зачем немцу яво спускать… Зачем?
— Шпионство разводят… А потом он самолетами зажигалки бросать будет, куда твой безрукий вкажет.
— А я тебе говорю: он Красной Армией спущен.
— Ну, и где ты видала в Красной Армии безруких? Где?
— Ну, не видала. А все равно, то не германский самолет. Я же слыхала, как он гудев… Немецкий только угу, угу, угу, а наш жу, жу…
— Ах, много ты понимаешь в самолетах…
Они так и не дали нам спать. Я слез с сеновала. Возле сарая сидели освещенные утренним солнцем две бабы. У обеих — длинные драгунки за плечами с белыми самодельными ложами. Это была самооборона. Старшая держала в руках метров пять парашютной стропы, младшая, почти совсем подросток, из–под ладони, щурясь, смотрела на дорогу.
Я спросил, о чем они спорят.
Перебивая друг друга, они рассказали мне, что километрах в пяти от нас, у партизанского села, ночью приземлились три неизвестных парашютиста. Один из них, молодой парнишка в штатском, опустился в Десну и чуть не утоп. Второй, приземлившийся возле ветряка, оказал вооруженное сопротивление партизанам, а когда был взят ими, оказался безруким. Третий парашют найден в жите, а парашютист исчез.
— Безрукий? — спросил я. — А как звать его?
— Он не говорит. Он только губы кусает. Я ж говорю: их немец спустил, зажигалки вызывать будет.
Я вспомнил о Зеболове, вспомнил, что отрядом, где приземлились таинственные парашютисты, командовал милиционер, возомнивший себя Александром Македонским. Я быстро оседлал коня и пустил его в галоп. Действительно, безрукий Володя, мой однокашник по разведывательной школе, сидел на бревнах возле штабной избы и угрюмо улыбался. Ноги его были связаны, култышки рук, торчавшие из закатанных рукавов полосатой косоворотки, делали его похожим на общипанного селезня. Рядом стоял табун ребятишек, таращивших глаза на невиданного парашютиста.
Володя бросил на меня безразличный взгляд, а затем, узнав, рванулся ко мне.
— Сиди, — сказал «часовой» — здоровенная бабища, замахиваясь на него винтовкой.
Володя сразу присмирел. Он кинул косой взгляд на часового.
— Майор, скажи ты ей. Прямо по шее прикладом лупит, сволочь.
Я только сейчас заметил плачевный вид Володи. На теле были ссадины, рубаха разорвана.
Я приказал бабе не превышать прав караульного, а Володе не горячиться.
Разговор с командиров отряда был длинный. Он долго молчал, слушал мои объяснения, а затем вырвал из толстого гроссбуха несколько листов и начал что–то писать. «Протокол», — прочитал я заглавие. Далее следовала обычная «шапка». Внизу на всю страницу он долго, пыхтя, выводил: «вопрос — ответ, вопрос — ответ» и, пронумеровав их по порядку, только тогда обратился ко мне.
Читать дальше