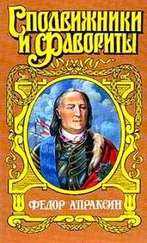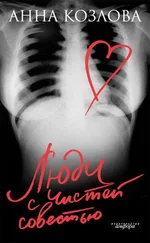Может быть, только для того и свил Валентин свое хрупкое партизанское гнездо, чтобы в последний путь провожала его женщина.
А где–то у каждого из нас есть мать. Есть она и у Вали Подоляко. Вещует ли ей материнское сердце, что другая женщина провожает ее сына в последний путь?
От этой мысли сразу невесомым показалось только что прошедшее перед глазами девичье горе.
«Жена найдет себе другого…»
А ведь придется же нам, тем, которые останутся в живых, встречать матерей. Получать их письма. Они будут спрашивать: «Где мой сын?» Что мне ответить матери Вали Подоляко? Чем утешить ее материнское горе?
Да и можно ли утешить его?
Но если можно, то лишь тем, что в эту звездную ночь в далеком селе Рожковцы, где сложил свою буйную голову ее Валя, был разгромлен тринадцатый эсэсовский полк фашистов, да тем, что бойцы, которые были под командованием ее сына, уничтожили свыше сотни машин, полтысячи фашистов остались там навеки.
Батальоны прошли. Колонна втянулась в лесок. Кончали маскировку. Авиация не показывалась. Похоже было, что мы успели упрятать свое громоздкое тело на весь длинный летний день. Он обещал быть ясным и солнечным.
В лощине виднелась не то церквушка, не то кирха, не то костел. Белели хаты. В село направлялась наша застава.
Село оказалось польским. Не поп, а ксендз жил рядом с костелом. Я попросил разрешения остановиться у него. Бритое лицо, длинная сутана с кожаным поясом. Он любезно и, как мне показалось, униженно кланяясь, проводил меня в горницу. Молодые парни с прическами, похожими на те, которые носят у нас футболисты, повели под уздцы моего неказистого коня. Кожаные пояса охватывали их осиные талии. Подрясники были похожи на юбку клеш. Странные люди!
— Как ваше село зовется, пане ксендз? — спросил я сонно, так, чтобы что–нибудь спросить у собеседника.
Я даже ахнул, когда услыхал в ответ:
— Веска называется Старая Гута.
— Опять Старая Гута?!
Сколько их уже пройдено на нашем пути!
Из Старой Гуты двинулись мы с отрядом Ковпака в этот бесконечный рейд. Старые Гуты на Черниговщине, в Белоруссии, под Киевом, и вот снова она — где–то у предгорий Карпат — неизвестная Старая Гута. Как спасительная веха вдруг возникаешь ты. Старая Гута, на завьюженном моем пути. А может, ты — восклицательный знак в конце жизни?
Для одного из нас ты уже — последняя Старая Гута. Его похоронили под корневищами дуба.
Оправившись от первого смущения, ксендз, подмигивая мне, поводит шаловливо бровью в сторону куцего шкафчика.
«В чем дело? Ага! На столе стоят маленькие рюмочки».
Он вынимает из шкафа графинчик. Наливает, кланяется.
Услышав слова партизана, обратившегося ко мне «товарищ подполковник», ксендз с изумлением смотрит на меня. Быстро меняет наперстки на большие рюмки, разглядывает ордена и медали, прикрепленные к лацкану штатского пиджака.
— Пане пулковнику! Чекнемось за здоровье вашего войска, пане пулковнику!
Улыбочка не покидает его лица.
— Что знает пан ксендз о немецких гарнизонах?
Ксендз также подобострастно, но уже более точно отвечает мне.
Затем спрашивает:
— А ве, пан пулковник, пшед вчорай и тамтего дня через мястечко Бучач великой валкой [большой колонной (польск.)] двигались немецкие машины?
— Куда?
— На захуд, проше пана пулковника.
— Войско? — спрашиваю у ксендза и лезу за картой.
Отрицательно замахал он руками и захихикал тихо, угодливо.
— Не, нет, проше пана пулковника. То не войско. Цивильдейч, утекали до Львова.
По карте Бучач в пятнадцати километрах от Старой Гуты. Ага! Гебитскомиссары, ландвирты, сельскохозяйственные офицеры и вся эта полуштатская саранча, высасывающая из народа кровь, снимается с насиженных мест и мчится на Львов. Позабыв об осторожности, «поддаюсь» любезному тону своего собеседника.
— А не может ли пан ксендз узнать, что делается в Бучаче?
— Тераз?
— Сегодня. Да.
Остановившись на секунду и впившись мне в переносицу каким–то белесым взглядом, ксендз вдруг произнес польское слово, впервые услышанное мною.
— Так. Пан пулковник делает мне честь и просит провести для него вывьяд?
Не понимаю. Несколькими словами, сопровождавшимися жестом лисы, он поясняет:
— А–а… Вывьяд — это по–нашему разведка?
И глядя в глаза уже твердым, откровенным взглядом, он повторил:
— Пан просит провести вывьяд?
— Да, если можно.
Ксендз преобразился.
— Можно!
По–военному щелкнув каблуками, он повернулся к двери:
Читать дальше