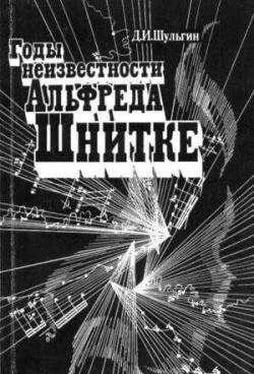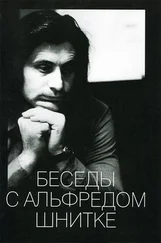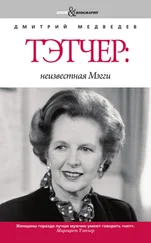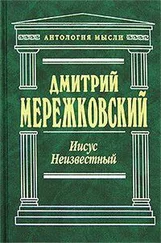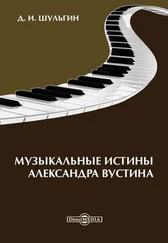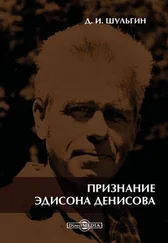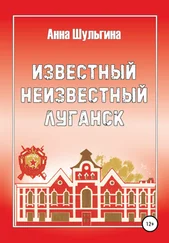— Как Вы ощущаете в своей симфонии решение проблемы финала, его драматургическое место?
— Как по форме, не знаю. Но по ощущению моему, финал, занимая достаточно много места в сочинении, является его безусловным центром. В предыдущих частях возникает только подготовка к нему: все, что в них есть, проходит потом в финале как бы в осмысленном виде — все три части — это три состояния, три разрозненных ощущения, — скажем, драматизм, жанр и лирические переживания — они разрознены, оторваны друг от друга, — а в финале есть попытка дать все это параллельно, как единое состояние.
«Желтый звук»
(1974 г.)
Это 73–74 годы. Все началось с того, что Рождественский обратился ко мне с предложением сочинить что-нибудь для своего предстоящего концерта. В нем предполагалось исполнить произведения, созданные как некий образный альянс с определенными живописными полотнами, и отсюда возникала мысль провести его под девизом «Музыка и живопись». Рождественский же предложил мне в качестве темы использовать полотна Клее. Я взял «Желтый звук» (на немецком это звучит как«…der gelbe Klang»), к которому есть либретто Кандинского. С самого начала я решил писать с тем намерением, чтобы произведение могло пойти и как концертное сочинение, и как небольшая пантомима. При этом в концерте предполагалась сопроводительная демонстрация картин самого Кандинского.
— Что-нибудь в виде слайдов?
— В общем, да.
— Этот сценарий, кажется, был использован Ведерном?
— Да, и не только у него. Самым первым здесь был Хартман, который, кстати, работал непосредственно с самим Кандинским.
— А какой должен быть состав исполнителей?
— Смешанный хор, сопрано соло и инструментальный ансамбль: чембало, фортепиано, скрипка, труба, контрабас, кларнет, тромбон и еще электрогитара, ионика, группа ударных с колоколами, tam-tam'ом, маримбой, вибрафон и другие.
— Как решалась гармоническая структура?
— Здесь важными для меня казались два пути: один — это красочно-световая игра, идущая не только и не столько от формального расчета, сколько больше высвечивающаяся изнутри, из каких-то слышимых образных фрагментов либретто; второй — это построение сюжетной канвы с определенными продуманными временными пространствами, персонажами, окрашенными светом своих тонов. Оба пути должны были слиться в символике действий, явлений, разных сплетений либретто, всегда — так по крайней мере было задумано — интуитивно воспринимаемой. Что касается красочности, то она здесь не только звуковая, но и не меньше тембровая.
— Что для Вас здесь наиболее новое по сравнению с сонористикой «Pianissimo…» или «Трех стихотворений»?
— Ну, например, игра обертоновыми красками, когда отдельные аккорды как бы купаются в их звучании (такое происходит особенно часто в IV части у фортепиано в сольной каденции), или, когда, скажем, в VI части вся оркестровая ткань составляется из обертонов; звуковые эффекты глиссандо по обмотке басовых струн, правда, я уже использовал этот прием в романсах, но здесь оно применяется в другом диапазоне и более активно, и вот эти волнообразные движения, синусоиды тоже были — в Серенаде, — но опять же не в таких амплитудах и объемах, и, естественно, тембрах.
— Какая роль отводилась хору?
— В основном тоже сонористическая, но не только. Приемы здесь довольно известные — из того же Пендерецкого, его «Космогонии», Штокгаузена и других.
— Какие именно?
— Их довольно много. Например: шепот при выдыхании — самое начало; заклинающие магические повторения отдельных слов и кратких реплик — это во второй части; спазматические выдохи, разные всплески, многопластовые педали и тому подобное — в основном третья и пятая части.
— Что представляла из себя драматургическая идея сочинения?
— В основе ее — вполне традиционный конфликт Добра и Зла, Света и Тьмы. На сцене — это Героиня — Вечный Свет, Мужчина в Белом, фигура Желтого цвета, которым противостоят Черный человек, Великаны. Правда, главным здесь для меня был все-таки сам путь к воплощению этого вечного дуализма: я имею в виду связь пластики и свето-цветовых решений, раскрытие их в статике и еще не опробованных мною динамических формах сонористического движения.
— Кроме сонористики, какие еще формы композиционной техники используются в «Желтом звуке»?
— Есть ритмическая серия в I, II, V и VI частях, в третьей много инструментальной алеаторики. Здесь, кстати, импровизационность буквально воцаряется во всей музыкальной ткани.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу