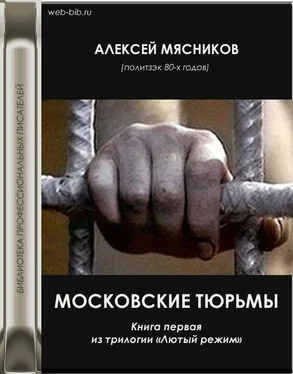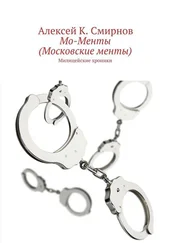Однако протокол озадачил. Ни с того, ни с сего я будто бы утверждаю, что текст «173 свидетельства» содержит клевету, позорящую нашу страну и меня самого. Вношу в протокол деликатное уточнение: «В момент изготовления той и другой рукописи я не отдавал отчета и не сознавал, что это может квалифицироваться как преступление, как нечто порочащее и клеветническое». Залегин зарывается в свои бумаги, давая понять, что беседа окончена и я ему больше не нужен. Наверное, проголодался, время обеда. Что меня ждет за порогом? Пойду ли домой или опять пропасть камеры? Выходить страшно. Спрашиваю с надеждой: «Значит, постановления на арест не будет?» — «He знаю», — сухо отвечает перевоплотившийся Залегин. И в этих словах я слышу «не будет», ведь если не он, то кто еще может выписать постановление? И когда? Через пару часов истекают законные третьи сутки, что может измениться за это время? Тем более оно для прокурора обеденное. Бодро перешагиваю порог в полной уверенности, что меня больше уже никто не остановит.
Но в коридоре ждет милиционер. Снова «Рафик». Ну, конечно, осенило меня, ведь в отделении остались мои вещи. «Что натворил?» — интересуются в пути милиционеры. «Сам не знаю, — говорю. — Всю жизнь писал, на хлеб зарабатывал, а теперь садят». «Писатель, значит», — понимающая интонация, мол, туда и дорога. Дежурный гостеприимно распахивает дверь камеры. Я артачусь: «Не имеете права, уже трое суток». «Ничего не знаю, вас не я держу, а следователь», — проталкивает в камеру. До трех, когда будет точь-в-точь трое суток, оставалось часа полтора. Чересчур уж они пунктуальны, бог с ними, час потерплю. Выждал час, никто не подходит. Что они, с ума посходили? Забыли, что ли? Стучу: «Выпускайте!» Подходит дежурный: «Чего шумишь?» «Трое суток прошло, не имеете права». «Жалуйся на следователя». И весь разговор. Зверею, заметался по камере. Клетка, тиски, капкан. Весь в чужой власти. Физическое ощущение произвола: насилие и свое собственное бессилие. Никогда еще не был так беспомощен и надеяться на кого, если закон не защита?
Лишь часу в пятом выпускают меня к следователю. Кудрявцев в той же комнате. Деловым жестам бумагу под нос. Красная полоса по диагонали — арест.
И рухнуло все во мне. Глаза закипели. «Если своя земля топчет…» — отвернулся к окну, чтобы скрыть обидные слезы. Что сделал плохого для Родины, чем провинился? Только тем, что желал ей добра. Все, все исковеркано. Это конец. Впереди другая жизнь, неизвестная — жуть впереди. И этот, наверное, злорадствует. Могуч! Слезу вышиб. Стыдища! Перед кем слабину дал? Ведь тем и сильны они — нашей слабостью. Нет уж — выкуси! Так стыдно — на себя обозлился. Вдохнул полной грудью и воздух камнем, стержнем во мне. Есть крепость, теперь хоть на смерть. Спокойно сажусь напротив Кудрявцева и расписываюсь на постановлении. Вину не признаю. Кудрявцев хмурится:
— Выгораживаешь Попова — будешь сидеть сам…
Да, я это слышал. Теперь я это понял. Официальное обвинение формулируется иначе, но постановление — это бумага. А то, что говорит Кудрявцев — это факт. Закон лишь фиговый листочек произвола. И Кудрявцев этого не скрывает. Я уже не человек, я pa6 — со мной уже не надо играть в законность. В тюремных стенах они у себя дома, здесь они не стесняются. Цинизм беспредельной власти, о существовании которого до сих пор я только читал или слышал, предстал передо мной лицом к лицу. На собственной шкуре теперь, ценой искалеченной жизни я узнаю ощеренные клыки партийной гуманности и справедливости. Отныне вся жизнь моя станет неравным поединком с этим чудовищем, имя которому — государственный произвол. Борьба непримиримая — кто кого. Я начинаю с поражения. Может, к лучшему — закалка на будущее. А кончится обязательно нашей победой. Иначе и быть не может. Ведь несправедливая жизнь не имеет смысла.
Человек или не должен быть, или должен быть добр и разумен. Надо бороться с тем, что мешает человеку быть человеком и для других. Иных путей существования нет. Мы, по Аристотелю — социальные животные, без социальности, друг без друга — просто скоты.
Кудрявцев долго крутит диск телефона. После затянувшегося молчания слышу его голос: «Я вас устрою в хорошую тюрьму». И милости-то у них карательные. «В какую?» «В Лефортово хотите?» Дух перехватило: это же политическая, КГБ, срока-то там! Кудрявцев улыбается: «И чистые простыни, не так ли»?
Отправили в камеру, продержали еще час. Круглое оконце темнеет. Выводят снова. Кудрявцев по-прежнему на телефоне, говорит устало: «Пятница — ни одна тюрьма, не берет, придется побыть до понедельника». «Ни в коем случае, я здесь с ума сойду!» Качает головой и крутит, крутит диск. Наконец: «Вам повезло, сейчас поедете». «Куда?» «Не знаю, где примут».
Читать дальше