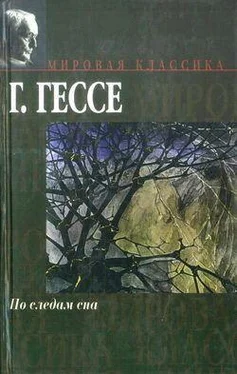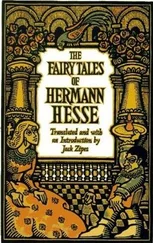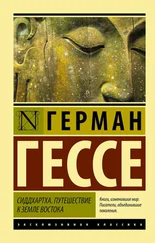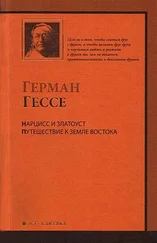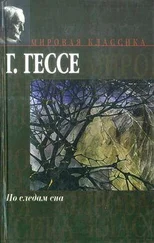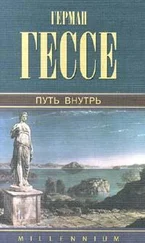И поэтому я, усталый старый хрыч, рад, что я достаточно стар и истрепан, чтобы умереть без сожаления. Но молодежь, в том числе и своих сыновей, я оставляю не в безнадежности, а только среди тягостного и страшного, в огне испытаний, нисколько не сомневаясь в том, что все, что было свято и прекрасно для нас, будет и для них, и для будущих людей прекрасно и свято. Человек, думается мне, способен на великие взлеты и на великое свинство, он может возвыситься до полубога и опуститься до полудьявола; но, совершив что-то довольно-таки великое или довольно-таки мерзкое, он всегда снова становится на ноги и возвращается к своей мере, и за взмахом маятника к дикости и бесовству неизменно следует взмах в противоположную сторону, следует неукоснительно присущая человеку тоска по мере и ладу.
И поэтому я думаю, что хотя сегодня старому человеку ничего хорошего ждать извне уже не приходится и самое лучшее для него – отправиться к праотцам, но прекрасные стихи, музыка, искреннее воспарение к божественному сегодня по меньшей мере так же реальны, так же полны жизни и ценны, как прежде. Более того, оказывается, что так называемая реальность техников, генералов и директоров банков становится все нереальнее, все иллюзорнее, все неправдоподобнее, даже война, возлюбив тотальность, утратила почти всю свою притягательность и величавость: в этих материальных битвах сражаются друг с другом гигантские призраки и химеры – а всякая духовная реальность, все истинное, все прекрасное, всякая тоска по нему сегодня кажется реальнее и существеннее, чем когда-либо.
Дорогой Мартин!
[…] Прилагаю последнюю редакцию нового стихотворения. Да, это смешно: в то время как весь мир в окопах, убежищах и т. п., готовится вдребезги расколошматить наш доселешний мир, я целыми днями занимался тем, что отделывал маленькое стихотворение. Сперва в нем было четыре строфы, а теперь только три, и я надеюсь, что оно стало от этого проще и лучше, не утратив ничего существенного. В первой строфе мне уже с самого начала мешала четвертая строка, и, часто переписывая эти стихи для друзей, я начал перкутировать строчку за строчкой и слово за словом, проверяя, что лишнее и что нет.
Девять десятых моих читателей вообще не замечают, в той ли редакции дано стихотворение или в другой. От газеты, которая это напечатает, я получу в лучшем случае франков десять, независимо от того, в той ли редакции пойдут стихи или в другой. Для мира, стало быть, такое занятие – бессмыслица, какая-то игра, что-то смешное, какое-то даже сумасшествие, и возникает вопрос: зачем поэту устраивать себе столько хлопот из-за каких-то своих стишков и так тратить время?
И можно ответить, во-первых, так: хотя то, что делает в данном случае поэт, наверно, бесполезно, ибо маловероятно, что он сочинил как раз одно из тех очень немногих стихотворений, которые живут потом сто и пятьсот лет, – все же этот смешной человек делал нечто более безвредное, безобидное и желательное, чем то, что делает сегодня большинство людей. Он делал стихи, нанизывал на нитку слова, а не стрелял, не взрывал, не рассеивал газ, не производил боеприпасов, не топил судов и т. д. и т. д.
А можно ответить и по-другому: когда поэт так выискивает, расставляет и подбирает слова, находясь в мире, который завтра, возможно, будет разрушен, это в точности то же самое, что делают анемоны, примулы и другие цветочки, которые растут сейчас на всех лугах. Находясь в мире, который, может быть, завтра окутает ядовитый газ, они тщательно образуют свои листочки и чашечки, с пятью или четырьмя или семью лепестками, гладкими или зубчатыми, делают все точно и как можно красивее.
Дорогой господин Хумм!
[…] Кроме многих других качеств у Достоевского, как мало у кого в его веке, есть прежде всего одно качество – величие. Ведь он же не только вводит нас в муки и смуты, но и большей частью проводит через них, и – что немногие его читатели в сущности замечают – у него удивительно много юмора для проблематика и пророка; например, «Подросток» полон юмористических черт, «Идиот» – тоже.
Что господин Книттель разъезжает теперь с такой миссией, это ему, собственно, вполне к лицу.
Книгу Эмилии Бронте я читал когда-то в немецком переводе, и у меня осталось от нее сильное впечатление. С сестрами Бронте я при чтении не раз встречался, а недавно прочел и книгу о них, вышедшую у Рашера по-немецки, к сожалению, это ужасная ерунда, сентиментальный биографический роман самого дурного свойства, но есть там интересные факты и запоминающиеся иллюстрации (портреты и фотографии), старик-отец, в частности, выглядит в точности как персонаж из романа Эмилии. […]
Читать дальше