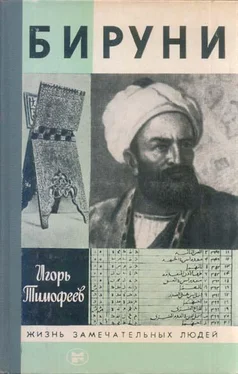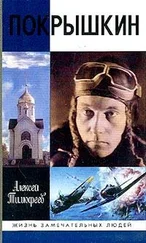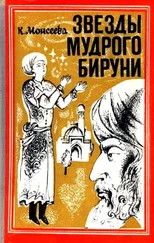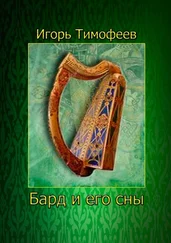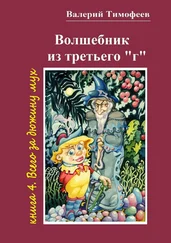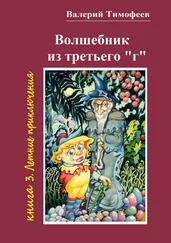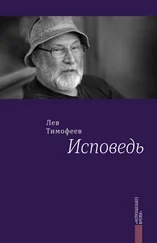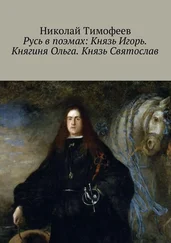Книга состояла из двух неравных частей: «О драгоценных камнях» и «О металлах». Большей по объему была первая часть, в которой Бируни дал подробное описание всех известных ему драгоценных минералов, добавив сюда же некоторые вещества органического происхождения, такие, как гагат, асфальт, янтарь, а также получаемые искусственным путем стекло, фарфор, эмаль и глазурь. Вторая часть посвящена рассмотрению свойств различных металлов и сплавов; в ней же приводятся результаты проводившихся Бируни опытов по измерению удельных весов.
Такое построение «Минералогии» было вполне традиционным, как, впрочем, не выходил за рамки установившейся традиции и жанр книги, которую в отличие от «Геодезии» или «Канона» едва ли можно отнести к сочинениям сугубо научного плана. По своему содержанию «Минералогия» скорее напоминала лучшие образцы назидательно-дидактической литературы — так называемого «адаба». Этот жанр, широко распространившийся в мусульманском мире с XI века, известный итальянский арабист К. Наллино довольно точно определил как «учебники для представителей интеллектуальных профессий», включавшие, помимо чисто научного материала по той или иной отрасли знания», «прозаические или поэтические фрагменты, а также анекдоты и шутки, которыми можно было бы блеснуть в изысканной беседе». Непревзойденным мастером этого жанра считался Джахиз, чьи сочинения, посвященные минералогии и химии, были хорошо известны Бируни. В «Минералогии» мы не встретим никаких анекдотов и шуток, упоминаемых К. Наллино, но в духе той же «адабной» традиции научные сюжеты в ней то и дело иллюстрируются цитатами из стихотворений древних и средневековых арабских поэтов или кораническими сентенциями, которые нередко сопровождаются авторскими пояснениями и комментариями лексикологического или лингвистического характера. Забавной особенностью «Минералогии» является то, что Бируни, обычно суровый и непримиримый ко всякого рода суевериям и небылицам, на сей раз обильно вкрапляет их в ткань повествования, лукаво посмеиваясь и как бы приглашая читателя отвлечься от серьезного и улыбнуться вместе с ним.
Этим, собственно говоря, ограничивается традиционное и привычное; во всем остальном, начиная с последовательности перечисления минералов и кончая сведениями об удельных весах, «Минералогия» строится на фактах, добытых самостоятельно — наблюдением или опытным путем.
Согласно традиции главными критериями классификации драгоценных минералов были место, занимаемое ими в «шкале совершенства», и цвет. По цвету все камни делились на две большие группы: в первую входили красный яхонт (рубин) и «подобные ему» минералы красного цвета; другая группа включала изумруд и «подобные ему» камни зеленых тонов. В отличие от более поздних времен наиболее совершенными из драгоценных камней ювелиры XI века считали красные яхонты, а не алмазы, которые применялись тогда только для сверления и еще в качестве весьма изощренного яда для самоубийств. По этой классификации в одну группу с красным яхонтом обычно помещали все другие драгоценные камни красного цвета, затем переходили к жемчугу, занимавшему в «шкале совершенства» следующую графу, и лишь после этого упоминали более дешевые яхонты других цветов. «Шкала совершенства», таким образом, отражала в первую очередь коммерческую ценность камней.
В «Минералогии» Бируни вводит в научный обиход принципы совершенно иного рода. Следуя в общих чертах классификации арабского философа и естествоиспытателя IX века Кинди, он в целом ряде частностей находит собственные оригинальные пути. Так, например, свое описание Бируни по традиции начинает с яхонта, но не ограничивается его красной разновидностью — рубином, а тут же рассматривает яхонты других цветов, считая объединяющим признаком этой группы минералов не цвет, а такие свойства, как твердость и близость удельных весов. Отход от традиции проявляется и в том, что вслед за яхонтами он описывает не жемчуг, имеющий органическое происхождение, а алмаз. «Связь между алмазом и яхонтом, — подчеркивает он, — состоит в их крепости, твердости, нахождении по соседству в месторождениях и свойстве побеждать другие камни своей способностью резать и сверлить…»
Во многом Бируни так и не удалось преодолеть силу инерции, перешагнуть через устоявшиеся и, вероятно, казавшиеся ему очевидными представления, и все же его попытка нащупать внутреннюю связь явлений, увидеть близость внешне несхожих, но обладающих общими свойствами минералов явилась важным шагом на пути к созданию естественной классификации камней.
Читать дальше