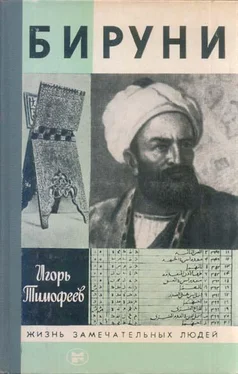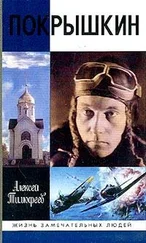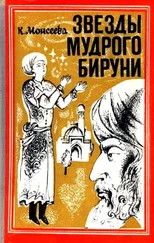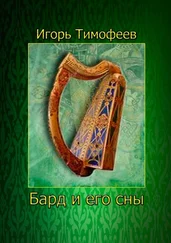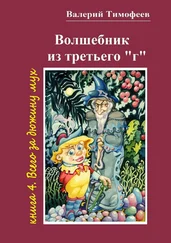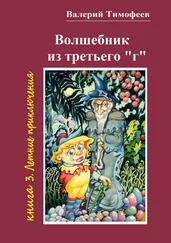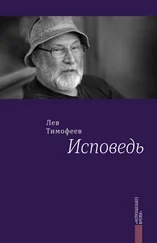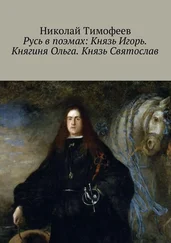Впрочем, в некоторых работах, созданных еще до «Канона», Бируни не раз высказывал мысль о принципиальной возможности вращения Земли. «Вращательное движение Земли, — писал он в «Индии», — нисколько не порочит астрономии, а все астрономические явления протекают в согласии с этим движением». Это вовсе не означало, что в какие-то периоды своей жизни Бируни стоял на гелиоцентрических позициях. Речь шла лишь о том, что идея гелиоцентризма, кстати сказать, выдвигавшаяся еще в III веке до н. э. Аристархом Самосским, не представлялась Бируни некорректной с точки зрения кинематики движении небесных тел.
В отличие от кинематики, не интересующейся причинами описываемых ею движений, философия издревле выдвигала крайне существенный для понимания мироустройства вопрос о причинах движения: «Omni quod movetur ab alio movetur» [16] «Все, что движется, движимо чем-то» (лат.).
. Этот афоризм, широко распространенный в ученых кругах средневековой Европы, имел в своей основе известное высказывание Аристотеля: «Все движущееся необходимо бывает движимо чем-то. Ведь если оно не имеет начала движения в себе самом, ясно, что оно движимо другим».
Размышляя еще в молодые годы об источнике движения Вселенной, Аристотель исходил из платоновской мысли о том, что «путь и перемещение неба, со всем существующим на нем, имеет природу, подобную движению, кругообращению и умозаключениям разума». Одушевленные светила, таким образом, двигались в результате собственного разумного произволения. Впоследствии в книгах «О небе» Аристотель в разных местах предложил две взаимоисключающие причины вечного круговращения неба: одна из них вытекала из особых свойств, якобы присущих самой природе небесной материи; другой причиной был вынесенный за пределы мироздания и трансцендентный [17] То есть стоящий вне его.
ему «перводвигатель».
Зрелый Аристотель остановился на второй идее. Вечный и невозникший двигатель мира — это бог, который, по Аристотелю, отождествлялся с неподвижным, бестелесным, созерцающим умом, мыслящим только себя.
«И без сомнения ему присуща жизнь, — писал Аристотель, — ибо деятельность разума есть жизнь, а он есть деятельность, и деятельность его, как она есть сама по себе, есть его жизнь, самая лучшая и вечная».
Учение Аристотеля о боге как перводвигателе мира и причине всех происходящих в мире движений оказалось созвучным исканиям мусульманских мыслителей, для которых главным был вопрос о соотношении бога и мира. В конце раздела, повествующего о геоцентрической системе Птолемея, Бируни, не считая возможным обойти стороной эту ключевую проблему, писал: «Каждая из планет двигается согласно положениям и законам миропорядка, усердно выполняя положенное ей, ибо создана каждая из них не зря, а явной мудростью и поразительным могуществом творца, упорядочивающим мир…»
В этом проявляется ориентация Бируни на отождествление деятельности бога с «положениями и законами «миропорядка», что сближает его с представителями рационалистического пантеизма, для которых «бог» символизирует целостность универсума [18] Философский термин; «мир как целое».
и разумность мироздания. В гносеологическом плане это неизбежно вело к признанию возможности познания реального мира и далее — к утверждению превосходства разума над верой. Именно таким было отношение к религии у Бируни; выступая за освобождение науки от пут религиозной догмы, он исходил из безграничного уважения к человеческому разуму, наделенному способностью познавать окружающий мир.
Основным критерием познания Бируни считал наблюдение и опыт. А это вкупе с признанием им реальности мира во многих вопросах приводило его на путь естественно-научного материализма, который, по определению В. И. Ленина, есть «стихийное, неосознаваемое, неоформленное, философски-бессознательное убеждение большинства естествоиспытателей в объективной реальности внешнего мира, отражаемого нашим сознанием» [19] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 14, с. 331.
.
Таким видел мир Бируни.
Пущенное в ход божественной волей, небо совершало равномерное и вечное круговращение, и с каждым его оборотом убывали дни, но они, как известно, движутся по прямой к своему пределу, ибо в отличие от неба ничего на земле не возвращается на круги своя.
* * *
При дворе Масуда вошло в моду кичиться богатством. Тон задавал сам султан — за десять лет его правления близким и дальним родичам, военачальникам и вельможам, воинам и купцам, поэтам и музыкантам и еще всякому темному люду, роившемуся вокруг дворца, было роздано из государственной казны 20 миллионов серебряных дирхемов и с четверть миллиона золотых динаров.
Читать дальше