Я часто бывал в гостях у лилипутов. Я почему-то считал их детьми и заигрывал с ними. Они нередко огрызались и гнали меня из комнаты. Однажды я застал процесс изготовления ими сосисок. Приготовленный тут же фарш один из лилипутов, стоя на табуретке за столом, кулачком набивал в кишку. Меня поразило это, и я попытался сунуть свой, громадный по сравнению с лилипутским, кулак, в эту кишку. За что был с гневом изгнан лилипутами из нашей же комнаты. Потом уже я прочитал про путешествия Гулливера, и нашел, что мои взаимоотношения с лилипутами несколько напоминали описанные Свифтом.
Женат был лишь один лилипут из всей труппы — ее директор по фамилии Качуринер. Имени я не запомнил. Жена его была обычная, высокая и дородная русская женщина. Думаю, что никакого секса между ними не было, просто так было удобно — так их поселяли в одном номере гостиницы, да и мы бы не пустили, если бы директор не показал паспорт, где была записана его жена. Но казалось, что жена не воспринимала его как мужа, а скорее — как ребенка.
Однажды, когда я, по обыкновению, был в гостях у лилипутов (дело было летом в тбилисскую жару), жена строго приказала мужу-Качуринеру: «Пойдем купаться!» Муж тонким голоском пытался что-то возражать, но жена, подхватив директора на руки, нашлепала его по попе и понесла в ванную, снимая с него штаны по дороге. Шум душа и визг любимого директора вызвали переполох в стане артистов. Но тут жена вернулась, неся на руках довольного, чистого, завернутого в полотенце директора, шикнула на малорослых артистов и принялась одевать мужа.
Кажется, это были последние постояльцы у нас. Наступал 1947 год. «Жить стало лучше, жить стало веселее», — как говорил вождь. Я слышал эту фразу и был согласен, что жить становилось все лучше и лучше. Но с лилипутами было намного веселее!
Войну я помню очень смутно. Я запомнил ее как голод, постоянно плачущих маму и бабушку (обе получили похоронки на мужей), черный бумажный радиорепродуктор, не выключающийся ни днем, ни ночью. Иногда были воздушные тревоги — репродуктор начинал завывать, и все бежали в убежище — свой же подвал под домом, который на честном слове-то и держался. Я хватал плюшевых мишку и свинку и бежал, куда и все. Я слышал треск выстрелов, говорили, что это стреляли зенитки. Иногда, очень редко слышались далекие взрывы — это рвались то ли немецкие бомбы, то ли падающие назад наши же зенитные снаряды.
Запомнились и стоящие на улицах зенитные установки с четырьмя рупорами
— звукоуловителями и прожекторами. Говорили, что если поймают самолет в луч прожектора — хана ему, обязательно подстрелят.
Мне говорили, что я был странным ребенком. Во-первых, постоянно мяукал по-кошачьи и лаял по-собачьи. Дружил с дворовыми кошками и собаками и разговаривал с ними. Метил, между прочим, свою территорию так же, как это делали собаки, и животные мои метки уважали. Понюхают и отходят к себе. Да и я их территорию не нарушал.
Мама и бабушка решили этому положить конец и запретили мне спускаться во двор. Двор — это огромная территория, почти как стадион, заросшая бурьяном, усыпанная всяким мусором. Посреди двора, в луже дерьма стоял деревянный туалет с выгребной ямой для тех, у кого не было туалета в квартире. Наш трехэтажный дом с верандами и железной лестницей черного хода, стоял по одну сторону двора; по другую сторону — «на том дворе» — находились самостройные бараки и даже каморки из досок и жести. Там жили «страшные люди» — в основном, беженцы, бродяги, одним словом — маргиналы, но попадались и вполне интеллигентные люди. Боковые части двора с одной стороны занимала глухая стена метров на пять высотой, а с другой стороны — кирпичное пятиэтажное здание знаменитого Тбилисского лимонадного завода с постоянно и сильно коптящими трубами.
Что ж, я очень переживал мою изоляцию от животных, и вечерами, с шатающегося железного балкона, который держался только на перилах, тоскливо мяукал и лаял своим друзьям во двор, а те отвечали мне.
Были попытки отдать меня в элитный детский сад, где изучали немецкий язык. Но я тут же стал метить территорию, и нас попросили убраться, да побыстрее. Дома мне было строжайше запрещено мочиться под деревьями, на стены и т. д., так как это «очень стыдно и неприлично». Справлять свои нужды можно было только там, где тебя никто не видит, т. е. в туалете, закрыв дверь. Лаять, мяукать и выражаться, нецензурными словами (что я уже начал делать) — нельзя ни под каким видом нигде. Внушения эти сопровождались поркой, и я торжественно обещал не делать всего вышеперечисленного.
Читать дальше
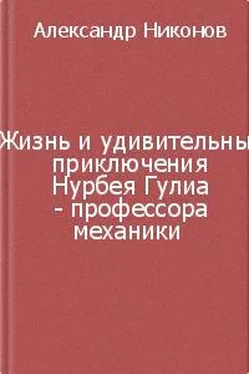
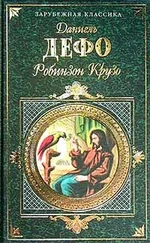





![Дмитрий Миропольский - American’ец [Жизнь и удивительные приключения авантюриста графа Фёдора Ивановича Толстого]](/books/426801/dmitrij-miropolskij-american-ec-zhizn-i-udivitel-thumb.webp)



