Ты мне рассказывала об этом?
Нет, зачем бы я тебе стала рассказывать это? Да я и не помню, был ли Хорен там. С другой стороны, ни отец, ни Хорен тебе не смогли бы этого рассказать, так как они ушли на войну. А про наколку Хорена — особенно! — и мама чуть ни плача, добавила: — Нурик, перестань об этом говорить, мне страшно! Я замолчал и больше не возвращался к этой теме. И мама тоже.
Рождения своего я не помню, а про него ведь рассказывали пикантные подробности.
Дело в том, что большевики или коммунисты, точно не знаю, кто из них, «уплотнили» нас и поселили в одной из комнат нашей квартиры семью Грицко Харченко, веселого хохла, кажется военного, и его жену — тетю Тату — акушерку. Вот эта-то тетя Тата и принимала роды у мамы в родильном отделении железнодорожной больницы.
Надо сказать, что уплотнили нас по-большевистски: в трехкомнатной квартире перед войной жили — бабушка с матерью и мужем, мама с мужем и я, тетя Тата с мужем — восемь человек. И когда на войне погибли все мужчины, и умерла моя прабабушка, посчитали, что мы живем слишком просторно. Одинокой тете Тате дали комнату поменьше, а нам подселили еврейскую семью — милиционера Рубена и его жену Риву с сыном Бориком.
Тетя Тата нас не забывала и часто приходила в гости. Я хорошо помню полную хохотушку, не стесняющуюся в выражениях. Мне было лет десять, когда она рассказала историю моего рождения.
— Мама твоя не хотела ребенка — война на носу, все об этом знали. Ну и решила она от тебя избавиться — прыгала с лестницы, мыла окна, делала гимнастику. Чтобы был выкидыш, одним словом …
Тата, как тебе ни стыдно, зачем ребенку это? — краснея, пыталась урезонить тетю Тату мама.
Но акушерка продолжала говорить, ей очень хотелось рассказать про пикантный конец истории:
— Ну и родился ты задушенный — пуповина вокруг шеи обмоталась, сам синий и не дышишь, то есть — не кричишь. А хозяйство это у тебя, — и она ткнула меня пониже живота, — окрепло и стоит, как у взрослого мужика. Это от удушья бывает, но чтобы так сильно — прямо как у мужика, я еще не видела. Ну, похлопала я тебя по попе, дала дыхание, и ты как заорешь! Это примета такая акушерская — у кого при рождении эрекция, тот таким кобелем вырастет …
Тут уж мама вскочила с места и закричала:
— Тата, прекрати сейчас же, что ты говоришь при ребенке, он этих глупостей пока не понимает!
— Понимает, понимает, — успокоила тетя Тата маму, — десять лет ему, небось, вовсю ручками балуется. — Ручками балуешься? — весело спросила она меня.
Какими ручками? — краснея, переспросил я ее, — фу, глупости какие говорите! — пробормотал я и выбежал из комнаты под оглушительный хохот тети Таты.
Конечно, тетя Тата была грубоватой женщиной, но про приметы акушерские знала все основательно …
Я уже говорил, что сохранил информацию о том, что было до моего рождения, но о самом рождении и о первых двух-трех годах жизни знаю только понаслышке. О рождении, я уже рассказывал, а через год и девять месяцев началась война. К сожалению, а может быть и к счастью, этого этапа своей жизни я не помню, так как почти все это время болел чем-то желудочно-кишечным, так, что голова почти не держалась на шее — повисала от слабости. Отца уже забрали в армию в самом начале 1940 года, и главой дома остался муж бабушки — Федор Кириллович Зиновьев. Туго ему приходилось — во-первых, он был единственным кормильцем семьи, во-вторых, припоминали ему его белогвардейское прошлое, а в-третьих — чуть не приписывали ему участие в троцкистско-зиновьевском блоке. Из-за фамилии. Люди при этом забывали, что «Зиновьев» — это исконно русская фамилия, а «враг народа» Зиновьев («бой-френд» Ленина и его «сожитель» по шалашу в Разливе) был Радомысльским, а до этого — Апфельбаумом. Видимо для того, чтобы, если его спросят: «А кем вы были до «Зиновьева»?», ответить — «Радомысльским», а потом уже огорошить любопытного исконной и колоритной фамилией — «Апфельбаум». Неужели можно было спутать белого офицера, дворянина Зиновьева с Апфельбаумом? Но путали по безграмотности.
Так вот, лечили меня от перманентного поноса два врача — поляк Парчевский и армянин Григорянц. Парчевский требовал, чтобы кормили исключительно рисовым отваром, Григорянц советовал мясной бульон. В результате давали и то, и это, а голова моя повисала на немощной шее все больше и больше. Зиновьев не стерпел экспериментов над малышом и, схватив свою белогвардейскую шашку (она до сих пор висит у меня на стене), изгнал и того и другого эскулапа. Стали кормить как всех детей. А потом началась война, кормильца Зиновьева мобилизовали, и есть стало нечего. Вот и понос прошел сам собой.
Читать дальше
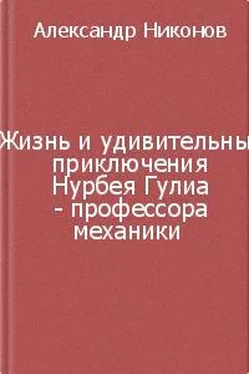
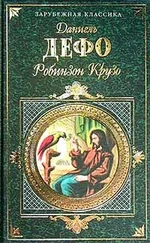





![Дмитрий Миропольский - American’ец [Жизнь и удивительные приключения авантюриста графа Фёдора Ивановича Толстого]](/books/426801/dmitrij-miropolskij-american-ec-zhizn-i-udivitel-thumb.webp)



