К могилам. Старое испанское кладбище уже не используется и служит парком. Оно было заложено в 1822 году во время эпидемии холеры. В плане оно похоже на обрамленный листьями кроны цветок; главная арена веером разворачивается в боковые кладбища. Все отделения, до самых ворот, обнесены темными каменными стенами. В их ниши задвигались гробы, многие тысячи; при закрытии кладбища их удалили. Это, как я заключил по датам на нескольких сохранившихся мраморных табличках, произошло, должно быть, около 1911 года. Ныне у меня создалось впечатление опорожненных сотов или гигантской челюсти, из которой выломаны пломбы. Тем не менее, после горячей сутолоки большого города прогулка в тени филодендронов и деревьев, с буйными зарослями орхидей между ними, принесла свежесть; было мирно и тихо.
* * *
Потом мы поехали вверх на американское солдатское кладбище. Здесь покоится, должно быть, тысяч шестнадцать. Могилы окружают большими секциями возвышенности в форме звезды; на них стоят кресты из каррарского мрамора, кое-где попадаются тюрбаны или звезды Давида. Белизна этих стел ослепляет на фоне зелени ухоженного газона, по которому шагаешь, как по ковру. На всех указано имя, дата смерти и номер. Каждый неизвестный упомянут тоже, и хотя я обошел лишь малую часть кладбища, мне пришлось часто читать такой текст:
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ
ВО СЛАВЕ
ТОВАРИЩ ПО ОРУЖИЮ,
ИЗВЕСТНЫЙ ЛИШЬ БОГУ
Тихо было там наверху, не слышно даже самолетных шумов. Но в самом устройстве кладбища, при всей заботливости, которая была видна повсюду, заключалось что-то трансцендентное, оно было словно знак на вымершей планете, который должен светиться издалека.
К сожалению, близился закат, и ворота должны были запереть; поэтому мы смогли лишь ненадолго задержаться в мемориале на самой вершине холма. Если мы останемся в Маниле достаточно долго, я хотел бы еще раз посетить это место.
Собственно героон, напоминающее сторожевую башню строение, украшен рельефами в псевдоархаичном стиле, аналогичные можно увидеть на обращенной к Эйфелевой башне стене Трокадеро. Над павшим — три высокие женские фигуры, ближайшая к нему — фигура Отечества, которая его поддерживает, над нею фигура Справедливости, и еще выше — третья, задуманная, возможно, как Материнское божество.
Фойе с выложенными мозаиками: изображения операций, которые привели к потере и к возвращению Филиппин. Архипелаг насчитывает более семи тысяч островов; тут была проделана жестокая работа на воде, на суше и в воздухе — чего это стоит, мне показали могилы. Теперь я прошел крытой галереей, которая, точно страницами каменной книги, разделяется опорными стенами. Каждая из них сверху донизу покрыта именами павших. Число их гораздо больше, чем число покоящихся снаружи; сюда входят пропавшие без вести, перевезенные на родину, утонувшие в море, умершие в плену. Сколько глаз просмотрело уже этот каменный список в поисках того или иного имени? Я поискал свое между «Юнг» и «Юнкер», но не нашел его.
В общем и целом у меня сложилось впечатление достойного чествования и чистой, незапятнанной совести, стоявшей за этим. Я имею в виду не невозмутимую совесть солидных обывателей, а правосознание, которое доступно и побежденному — причем даже тогда, когда он придерживается иного мнения относительно фактов.
Через обширные, ухоженные пригороды назад. В частных садах время от времени встречается королевская пальма и дерево путешественников. Мне пришло в голову, что все-таки я его уже видел раньше, а именно — в иллюстрированной ботанике своего деда. Такие картины всплывают точно из снов. Виллы богачей в тропиках окружены настроением ленивого удовольствия; даже проезжая мимо невольно разделяешь его.
Позднее в каюте почитал еще «The First Filipino» [111], объемистое жизнеописание Хосе Ризаля; оно составлено Леоном Гуэрреро. В качестве эпиграфа цитата Уинстона Черчилля, оказавшаяся для меня новой: «Grass grows quickly over a battlefield; over the scaffold never» [112]. Это, к сожалению, верно. Оно касается и собственного прошлого, и мучительных воспоминаний.
Я попытался наглядно представить некоторые эпизоды — например, разговор Ризаля с командовавшим расстрелом офицером. В истории испанских колоний взаимодействие национализма и монашества носит особенно гадкий характер; но имеются исключения.
Офицер потребовал, чтобы Ризаль встал к взводу спиной, то есть как предатель, и упрямо настаивал на исполнении отданного им приказа. Наконец Ризаль уступил. Ответ его был, вероятно, таким: «Или вы отмените приказ, или войдете в историю как свинья».
Читать дальше
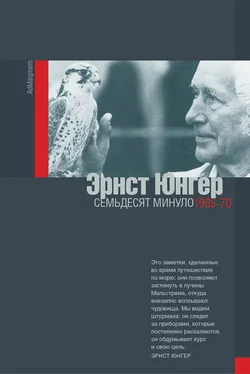









![Эрнст Юнгер - Стеклянные пчелы [litres]](/books/410842/ernst-yunger-steklyannye-pchely-litres-thumb.webp)

