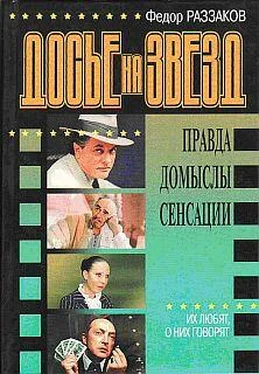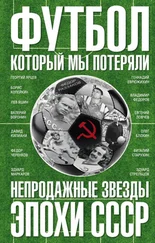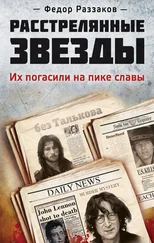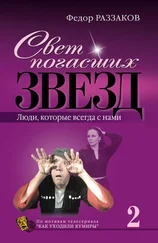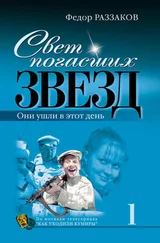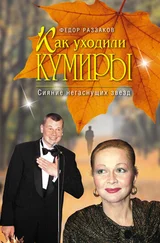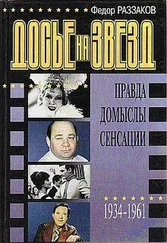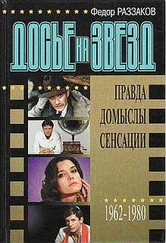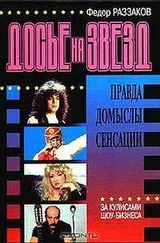Семен Михайлович Буденный.
Василь Семеныч Лановой.
Один рожден для жизни конной,
Другой — для жизни половой!
По словам самого Ланового, правды в этой эпиграмме — ни на грош. «Я отнюдь не гигант, нормальный мужик, каких много», — заявил он в одном из интервью. Однако вернемся к творчеству Ланового.
Его карьера в кино в 60-е годы складывалась удачно. После съемок в фильме «Как закалялась сталь» он около трех лет не выходил на съемочную площадку, считая работу в театре превыше всего. Наконец в 1960 году он снялся в фильме «Сильнее урагана», а год спустя пережил новый всплеск популярности, сыграв Артура Грея в экранизации «Алых парусов» А. Грина (режиссер Александр Птушко). Затем были роли в фильмах «Полосатый рейс» (1961), где Лановой появляется на двадцать секунд и произносит всего лишь одну фразу: «Хорошо плывут… вон та группа в полосатых купальниках», «Коллеги» (1962), «Иду на грозу» (1965).
В. Лановой сам вспоминает: «Подтверждением неприемлемости натурализма в искусстве в моей практике стал случай во время съемок фильма «Иду на грозу» по Д. Гранину, где я играл Олега Тулина. Нам с актером Александром Белявским предстояло сыграть сцену опьянения, которая у нас долго не получалась. Тогда режиссер фильма Сергей Микаэлян посоветовал, судя по всему, уже от отчаяния, взять четвертинку и по-настоящему ее распить. Мы так и сделали. После перерыва пришли на съемочную площадку, нас от жара осветительной аппаратуры развезло, и мы такого «наиграли» с Сашей Белявским, что режиссер, посмотрев на нас, скомандовал: «Стоп!» Съемки были прекращены. На следующий день, уже совершенно трезвые, мы сыграли эту сцену более правдоподобно и приемлемо, чем накануне, и она вошла в фильм».
После роли молодого ученого в фильме «Иду на грозу» Лановой сыграл трех героев далекого прошлого: Анатоля Курагина в «Войне и мире» (1966–1967), Феликса Дзержинского в «Шестом июля» (1968), Алексея Вронского в «Анне Карениной» (1968). В последнем фильме Лановому пришлось играть безумную любовь со своей бывшей супругой Татьяной Самойловой (Анна Каренина).
Стоит отметить, что первоначально предложение режиссера Александра Зархи сыграть Вронского Лановой отверг. Ознакомившись со сценарием, он обнаружил, что в нем сохранена в основном лишь одна линия — Анны, а его герою отводилась второстепенная роль. Ланового это не устраивало, и он от роли отказался. Зархи стал искать другого исполнителя, перебрал с десяток самых разных актеров, но ни один из них его так и не устроил. Тогда режиссер вновь обратился к Лановому. На этот раз их разговор был более обстоятельным. Зархи убеждал Ланового, что издержки при экранизации любого произведения неизбежны, что в работе многое будет восполнено. Видимо, доводы режиссера оказались настолько убедительными, что Лановой дал согласие на съемки. И, как показала жизнь, не ошибся — роль Вронского считается одной из лучших в послужном списке актера.
К череде «военных» ролей Лановой прибавил в начале 70-х годов, сыграв сразу двух офицеров: белогвардейца Михаила Ярового («Любовь Яровая», 1970) и красноармейца Ивана Варавву («Офицеры», 1971). Последняя роль принесла актеру небывалый зрительский успех. По опросу журнала «Советский экран» Лановой был назван лучшим актером 1971 года. Фильм «Офицеры» стал лидером проката, заняв 1-е место (53 млн. зрителей.
О работе над этой ролью В. Лановой вспоминает: «Трудно начиналась работа над ролью Вараввы в «Офицерах». Долго к ней не мог «подобрать ключи». Поначалу даже отказался от роли из-за того, что не видел, не чувствовал этого человека. Но как же неисповедимы пути актера!.. Так случилось, что именно в это время я увлекся замечательной, вдохновенной музыкой Вивальди, был просто покорен ею, много и с удовольствием слушал ее. Именно эта музыка и стала импульсом, толчком на пути к образу. Как-то слушая «Времена года» (считаю эту вещь одной из вершин творчества Вивальди), в момент радостного, почти мистического звучания музыки меня вдруг как током пронзилa мысль: так вот же он, Варавва, — радостный, открытый, «звонкий», в коем кипит радость бытия, и весь он искрится, как звучащая музыка. Он любит жену своего друга и знает, что безнадежно (потому что не сможет переступить через высокое, святoe для него чувство дружбы), но нет в нем уныния от безнадежности любви. Он все равно любит ее, все равно счастлив, по наделен этим высоким чувством, что оно снизошло к нему и дар, как награда за что-то, и он радуется этому, радуется — Как все же замечательно, что мне дано любить ее!».
Читать дальше