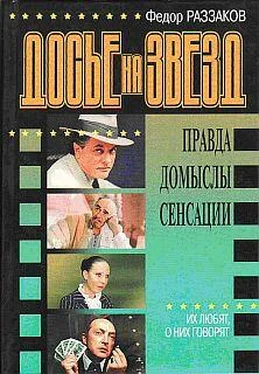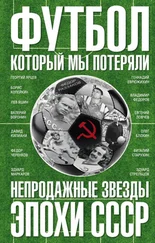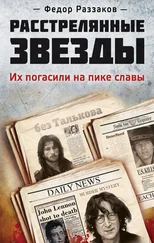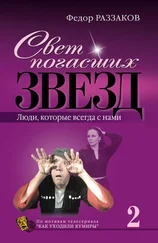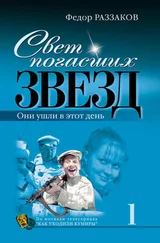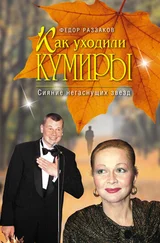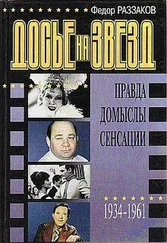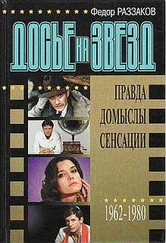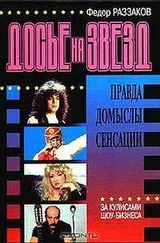Когда началась война, Зыкиной было 12 лет. По сегодняшним меркам возраст детский, а по тем совсем нет. Вместе взрослыми Люда Зыкина осенью 1941 года дежурила по ночам на крышах домов — сбрасывала зажигательные бомбы, которыми фашисты бомбили столицу. Тогда же она пошла работать токарем на завод имени Орджоникидзе. Получила третий pазряд. Однако продуктовый паек на заводе был скудный, а условия работы очень суровые. Когда однажды на побывку с фронта вернулся отец, он просто не узнал свою дочь — такой худой и изможденной она была. И он уговорил свою знакомую, директора булочной, взять Людмилу к себе на работу. Там Зыкина проработала чуть меньше месяца. Затем она устроилась работу в пошивочную мастерскую, благо любовь к шитью ей еще в детстве привили бабушка и мать.
Не забывала Людмила и о творчестве. Едва выдавалась cвободная минута, она спешила с подругами в клуб, выступала художественной самодеятельности. Правда, любимым видом творчества Зыкиной в то время было отнюдь не пение, а танцы. Глядя на то, как лихо она отплясывает, подруги уверенно заявляли: «Быть тебе, Люся, плясуньей!» Но судьба распорядилась по-своему.
В один из весенних дней 1947 года отправилась Люся с подругами в кино. И на площади Маяковского девушки увидели объявление о наборе солистов в хор имени Пятницкого. Кто-то из подруг возьми и скажи: «А слабо тебе, Люся, попробовать себя еще и в хоре?» Зыкина завелась с пол-оборота: «А вот и не слабo. Спорим на мороженое». Короче, прямо возле афиши мы и поспорили.
В том году конкурс в хор имени Пятницкого был огромный — около полутора тысяч человек. А теперь представьте себе такую картину: из этого количества желающих руководимой хора отобрали в свой коллектив лишь четырех человек — тpex парней и одну девушку. Читатель, наверное, догадался, что этой девушкой была именно Зыкина. Стоит отметить, что параллельно с занятиями в хоре Зыкина еще училась в школе рабочей молодежи.
В 1948 году в составе хора Зыкина отправилась в первые зарубежные гастроли — в Чехословакию, где тогда проводился фестиваль «Пражская весна». Хор выступал в нескольких городах, и везде его выступления собирали массу слушателей. Прошло всего лишь несколько лет после окончания войны, и дружба русских и чехов еще ничем не была омрачена. Поэтому большинство выступлений сопровождалось коллективным пением — хозяева пели вместе с гостями и «Стеньку Разина», и «Вниз по Волге-реке», и «Калинку».
Те несколько лет, когда Зыкина работала в хоре имени Пятницкого, ее учителем был руководитель прославленного коллектива В. Г. Захаров. Певица вспоминает:
«У Захарова я училась постигать «подходы» к песне, отбирать выразительные средства в соответствии с образным строем произведения, серьезно анализировать его, ибо без этого, считал Захаров, исполнитель превратится в бесстрастного илиостратора мелодии и текста. Распадутся внутренние связи, нарушится цельность пения.
Владимир Григорьевич был для нее воистину учителем русской поэзии, в которой он искал и находил множество удивительных примеров значительности слова. Можно сказать, что именно тогда, в годы работы в хоре, я поняла, что такое поэзия и как она необходима певцу. Я стала чувствовать музыку стиха и музыку русской речи вообще. Иногда читала сама для себя вслyx — училась говорить. Выписывала особенно полюбившиеся строчки, повторяла их на память, читала подругам…
По рекомендации Захарова я стала ходить в Третьяковку, смотрела живопись классиков, портреты тех, кто жил в одно время с создателями песен. Училась, как надо носить народную одежду, как убирать волосы, какие искать позы и движения…»
В 1949 году у Зыкиной случилось горе — умерла мать. Эта смерть так ее потрясла, что у нее пропал голос. Она не то чтобы петь, даже говорить громко не могла. Пение пришлось оставить. В течение нескольких месяцев Зыкина работала в Первой Образцовой типографии, почти не надеясь когда-нибудь вновь выйти на сцену. Однако случайная встреча в 1950 году с руководителем хора русской народной песни Всесоюзного радио и телевидения Н. Кутузовым вдохновила Зыкину на возвращение в мир вокального искусства.
В те годы в русской народной песне было всего лишь два признанных исполнителя: Лидия Русланова и Мария Мордасова. Их господство на тогдашней эстраде было безраздельным. Причем у каждой была своя ниша. У Руслановой — в основном старинные песни, она не любила новых песен и не исполняла произведений современных авторов. Она пела то, что пели в ее деревне. Репертуар Мордасовой был шире, но особенно хорошо ей удавались частушки. Здесь ей не было равных. Особенно сильно это проявилось в годы войны, когда Мордасову буквально завалили просьбами с фронта спеть частушки про все рода войск — ей писали танкисты, артиллеристы, летчики, разведчики. В итоге появился целый цикл войсковых частушек. Именно Мордасова сделала частушку достоянием профессионального искусства.
Читать дальше