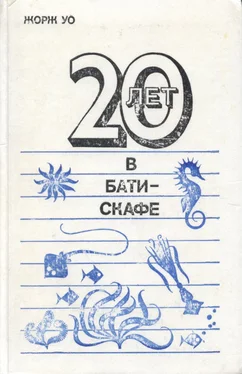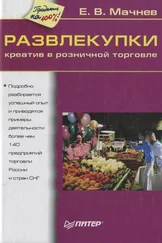Особенно интересны оказались геологические исследования, проведенные в Греции. Мы изучали дно желоба и его склоны. Одно из погружений было посвящено осмотру подступов к желобу и примыкающих к нему районов морского дна на глубина 4000 метров. Около трех часов «Архимед» шел курсом на запад, причем нам удалось обнаружить ряд террас или приподнятостей высотой от нескольких метров до нескольких десятков метров. Мы насчитали 19 таких террас; самая крупная ступень была около 300 метров высотой. Террасы эти имели острые бровки, хотя нигде в других местах скалистых пород мы не обнаружили. Последняя из террас выходила на подводную равнину. Происхождение их остается для геологов тайной. Мы уже встречались с подобными «лестницами» в районе Пуэрто-Рико; по-видимому, они имеются и в других океанических впадинах. Отмечу, что у берегов Греции террасы сложены из осадочных пород, а в районе Пуэрто-Рико — из вулканических. Каждая отдельная ступень настолько узка, что эхолот их не выделяет, указывая лишь среднюю глубину.
Добавлю, что эхолот не обеспечивает высокой точности измерений: действие прибора основано на определении расстояния по времени прохождения его ультразвуком, но скорость ультразвука меняется с изменением температуры воды и ее плотности, то есть зависит от глубины. Существуют, правда, таблицы поправок, но и они дают лишь приблизительные результаты.
Рельеф дна на морских картах, как правило, не слишком точен. Вполне доверять картам можно лишь в прибрежной полосе. Моряка обычно мало заботит, какая у него под килем глубина — три километра или пять; геологи тоже интересуются в основном общим характером рельефа, а не его деталями. Установление координат характерных точек рельефа, например, до сих пор считалось делом ненужным. В ближайшем будущем такой взгляд подвергнется пересмотру. Так, например, направляясь к берегам Греции, мы собирались обследовать некую якобы существующую там «достопримечательность» рельефа — что-то вроде подводной вершины посреди плоского, равнинного дна; при ближайшем рассмотрении никакой вершины в этом районе не оказалось.
В тот сезон произошел один не слишком лестный для нас инцидент; приведу записи геолога профессора Парейна, касающиеся этой истории и как нельзя лучше отвечающие на вопрос, который нам так часто задают: «Зачем вам самим опускаться на дно, когда автоматическая аппаратура, снабженная фотокамерами, поднимет на поверхность точно такие же данные, как ваши наблюдатели?»
"...Несколько раз мы замечали на грунте мелкие угловатые обломки диаметром в несколько сантиметров, лежащие группами по 3—4 штуки. Метров через 300 нам пришлось повернуть на юг, чтобы не потерять скопления обломков из виду; при этом обломков становилось все больше, хотя в остальном характер грунта не менялся. Окраску обломков трудно было различить под слоем ила, но кажется, что все они были более или менее одинаковы; некоторые из них походили на куски пузырчатой лавы. При помощи трала нам удалось захватить один из них — массивный камень четырехугольной формы. Вернувшись на поверхность, мы установили, что это всего лишь кусок угля размером 9X6,5X4,5 сантиметра. Так что замеченное нами скопление было, по всей вероятности, углем и шлаком, которые сбрасывают с судна после чистки котлов. Интересно, что даже под тонким слоем ила куски угля и шлака выглядели так необычно, что мы их не узнали. Воображаю, какое впечатление произвели бы фотографии нашего «скопления», если бы мы не подняли образец! Кто-нибудь наверняка использовал бы их в качестве свидетельства существования на дне каких-то необычных для этого района пород; вот был бы пример типичной ошибки при дешифровке фотоснимка!»
Изучая обрыв, которым заканчивается континентальный шельф, мы выяснили, что склон его чрезвычайно крут, примерно градусов 60, а на глубине между 2200 и 3000 метров он практически отвесный. У подножия стены местами встречаются крупные углубления, заполненные илом и скалистыми обломками размером в несколько метров...
Управлять батискафом во время спуска вдоль этого обрывистого склона было весьма нелегким делом; следить за залеганием пород мне было уже некогда. Но все же, ведя батискаф и все время помня об аппаратуре, установленной за бортом и потому наиболее уязвимой в случае столкновения, я нет-нет да и поглядывал на склон повнимательнее; от этого просто невозможно было удержаться, слыша восхищенные возгласы Делоза и профессора Переса; полностью разделить их восторги я все же не мог: уж очень беспокоили меня толчки, скрежет и вибрация корпуса при каждом, даже самом легком прикосновении батискафа к обрывистой стене. Удастся ли нам наконец найти гладкий участок склона? Повсюду мы натыкались на неровности, острые карнизы, гроты. С каким-то противоестественным упрямством «Архимед» старался забиться в расщелину или залезть под нависающий козырек; несколько раз в обоих бортовых иллюминаторах одновременно показывались выступы скалы. Как-то там наше захватно-подъемное устройство? Мысль о нем не давала мне покоя. Любой из этих толчков мог деформировать рельсы и таким образом вывести механизм из строя. То штанга, то стакан прибора для взятия проб грунта, то защитная сетка прожектора стукались о стену, но, непрерывно маневрируя, мы все же благополучно продолжали спуск. Вдруг — сильный глухой удар: сели на киль. Послышался треск, и батискаф снова начал опускаться, предварительно сильно наклонившись вперед. Бросаю взгляд на индикаторы течи — все в порядке. У меня было желание вернуться, не рисковать. Но ведь мы явились сюда, чтобы обследовать этот обрыв... надо продолжать!
Читать дальше