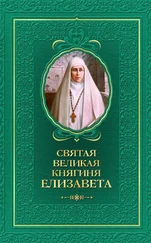В Париже я показала ногу врачам, но те ничего не нашли. Я сильно хромала, хотя боли почти не чувствовала. Лишь год–полтора спустя, уже в Америке, я узнала, что порвала ахиллесово сухожилие. Прооперируйся я вовремя, и можно было сохранить нормальную ногу, а так я заполучила одно мучение с нею, и, видимо, уже до конца своих дней.
Все эти приятные, занятные и даже болезненные впечатления отвлекали меня от мыслей о том, что мое материальное положение с каждым месяцем становилось все тревожнее. Я расплачивалась за неопытность и глупости, которые понаделала в первые годы эмиграции. Предотвратить катастрофу мог только случай. Больно вспоминать, сколько бессонных ночей металась я в постели, воображая неизбежное.
Мое дело давно переросло меня. Я уже не могла сама во все вникать и вынуждена была полагаться на других. С выбором сотрудников мне не везло: то это были безнадежные дилетанты, то невозможные профессионалы. Дилетанты, сами по себе честные люди, разбирались в делах еще меньше меня; профессионалы во всеоружии знаний плели интриги и работали на себя, о чем я не имела ни малейшего представления, за что и отвечала потом. Я вела оптовую торговлю и маялась, как меж двух жерновов, с поднаторевшими в своем деле заказчиками и торговцами, у которых брала материалы. И те и другие надували меня как могли. Заказчики выставляли надуманные претензии с целью сбить цену, они бесстыдно торговались и всегда брали верх. Оптовые торговцы сбывали мне свои товары по самой высокой цене. В Париже я была единственный дилетант в вышивальном деле, быстрый рост моего производства бесил конкурентов, а это были старые, с заслуженной репутацией фирмы. И то, что в этом диком положении оказалась женщина, делало его совсем скверным.
Кроме того, а скорее, прежде всего у меня никогда не было достаточно капитала, чтобы пустить его в дело, а оно расширялось, и я подбрасывала в него крохи, какие удавалось скопить. Росли долги, но я не решалась признать свое поражение. Тут объявилась некая русская, которая проявила огромный интерес к моим делам и предложила партнерство. Достаточно богатая, она могла выложить немалые деньги. Я согласилась. Очень скоро, уже рассчитавшись со мной, компаньонка стала проявлять недовольство. Вряд ли она в столь краткий срок могла рассчитывать на какую то прибыль; стало быть, раздражалась она из за чего то другого. И точно: она думала в придачу купить мою дружбу, а из этого ничего не вышло. Придравшись к чему то, компаньонка вчинила мне иск. Чтобы вернуть хотя бы часть суммы, пришлось расстаться с последней ценной вещью, что оставалась у меня, с жемчужным ожерельем, еще маминым. «Китмир» окончательно обескровел.
И тут же новая напасть: вдруг, одним разом, прошла мода на вышивки. С упорством и отчаянием я еще сопротивлялась неблагоприятной перемене, хотя разумнее было сразу сдаться. Некоторое время «Китмир» жалко оборонялся, и наконец я решила покинуть поле боя. «Китмир» поглотила старая, уважаемая парижская фирма. Считаясь с его прежней известностью, моему делу оставили его название, и хотя «Китмир» теперь уже не был независимым, свою клиентуру он сохранил, и для нее он по–прежнему был «Китмир».
Зимой 1928 года в нашей семье ожидалось прибавление. Дмитрий и Одри сняли в Лондоне дом и намеревались оставаться в Англии до рождения ребенка. Поздней осенью я поехала к ним, но из за дел пришлось вернуться в Париж. Так мы и сидели в ожидании по обе стороны Ла–Манша. С приближением срока я вообще старалась не выходить из дома, боясь пропустить оговоренный звонок из Лондона. И вот телефон ожил, наперебой звонили друзья Одри, докладывали, что происходит, и только изнервничавшийся Дмитрий не мог говорить. К вечеру наступило затишье, а в полночь раздался звонок.
— Дмитрий хочет вам что то сказать, — услышала я улыбающийся мужской голос. Через секунду брат взял трубку.
— Мальчик, — сказал Дмитрий, — все хорошо.
Его голос звучал нетвердо. Не вполне разборчиво он сообщил мне некоторые подробности. Потом трубкой завладели друзья. Кончив разговор, я еще долго осмысливала случившееся. У Дмитрия теперь есть сын, мальчик родился на чужбине, Россию он будет знать только по нашим воспоминаниям.
В память о деде его решили назвать Павлом, т. е. по–английски Полом, крестины назначили в Лондоне через две–три недели. Мое присутствие, будущей крестной матери племянника, было обязательно. В день, когда мне полагалось пересечь Ла–Манш, разыгрался такой шторм, что я совсем засобиралась обратно, но родственные чувства пересилили, и я вопреки стихиям взошла на борт парохода.
Читать дальше
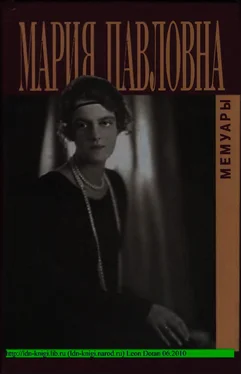
![Екатерина Дмитриева - Александр I, Мария Павловна, Елизавета Алексеевна - Переписка из трех углов (1804–1826). Дневник [Марии Павловны] 1805–1808 годов](/books/42052/ekaterina-dmitrieva-aleksandr-i-mariya-pavlovna-e-thumb.webp)
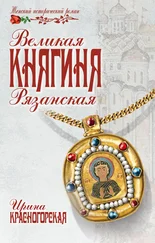







![Франциска Шедеви - Александр I, Мария Павловна, Елизавета Алексеевна - Переписка из трех углов (1804–1826). Дневник [Марии Павловны] 1805–1808 годов](/books/677158/franciska-shedevi-aleksandr-i-mariya-pavlovna-eliz-thumb.webp)