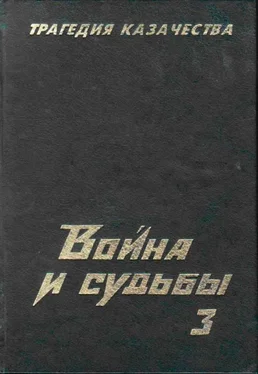Дошел и упал, уже совершенно неживой, грудью на оледенелый бетон, а буквально через несколько секунд меня выдернули вверх, как редиску из грядки и посадили в автобус.
Но на этом мои злоключения не закончились. Уже в здании госпиталя, оказывается, регистрировали прибывших раненых. Когда подошла моя очередь, регистратор обер-ефрейтор записал мои имя-фамилию, спросил о воинском звании, увидел на моей шинели ефрейторский угол, произнес: «А, ефрейтор» и собрался так записать, черт меня дернул возразить, что я, мол, никакой не ефрейтор, а военнопленный, то он заорал на меня что-то вроде: «Вон из госпиталя!» Слава Богу, что он не начал самолично выталкивать меня из здания, наверно, по причине занятости.
Я вышел в коридор, остановился у стены, опираясь на нее, и чувствую, что вот-вот упаду. Но не успел: бежавший мимо меня санитарный унтер-офицер пожилой, можно сказать, дедок, с усиками а ля Гитлер, остановился напротив меня, спросил, не из сегодняшнего ли я эшелона и в ответ на мой утвердительный кивок остановил двух санитаров, сам почти бегом направился по коридору, за ним эти два бугая, а я между ними, когда достаю ногами до пола, а когда и нет.
Забежали в палату, унтер указал на койку, санитары быстро сняли с меня шинель и тапочки, уложили на койку и исчезли.
Вот и спрашивается, много ли человеку нужно для счастья. Господи, какое это было блаженство: лежать в теплой комнате, на мягкой постели, укрытым приятным, даже каким-то нежным одеялом. Правда, я несколько беспокоился относительно криков того обер-ефрейтора, но никто меня больше не беспокоил. А через полчаса мне принесли для полного моего счастья и мой бумажный мешок, который я оставил в вагоне.
В госпитале города Сталино, я пробыл всего три дня, и ничего запомнившегося за это время не произошло. А вот «сталинская» встреча на железнодорожной станции настолько врезалась в мою память и, наверное, по Фрейду, в подсознание, что и по сей день я четко представляю в мыслях эту картину, которая и снилась мне за всю мою жизнь не один раз.
Во время переезда в Днепропетровск со мной опять произошло что-то нехорошее: я несколько раз терял сознание, и меня снова поместили в палату для тяжелых, каждые два часа меряли температуру, а я лежал полумертвый и с тоской смотрел на диаграмму, где линии: красная — температура и синяя — пульс (так, кажется) все время поднимались все выше и выше. Красная уже перебралась через 40°, я просто горел. В одном рассказе О.Генри больная девушка смотрела осенью в окно, где с дерева опадала листва и была уверена: когда с дерева упадет последний лист, она умрет. Я тоже был уверен, что когда красная линия дойдет до отметки 41 я умру, и уже был готов к этому, меня безжалостно кололи ночью и днем. Я ночью почти не спал, и по своему состоянию, да еще в соседней комнате, куда ход был через нашу палату, постоянно кричал диким голосом какой-то раненый. Как-то раз ночью его вынесли оттуда накрытым простыней, стало быть, в морг. Отмучился, бедняга.
Я не дождался намеченного мной рубежа. Красная линия оказалась более милосердной: не дойдя пары миллиметров до прощания с жизнью, она двинулась по горизонтали, а затем потихоньку потихоньку пошла вниз, а суток через трое я уже был как огурчик. Что со мной было, мне не объяснили; скорее всего это были последствия той самой «сталинской» выгрузки.
Общая палата, куда меня перевели, была огромной, в ней размещалось может сто, а может двести раненых. Это был зал заседаний Днепропетровского облисполкома, и все многоэтажное здание было превращено в огромнейший госпиталь.
Меня перенесли вечером, а в первое же утро произошел интересный эпизод.
Утро, почти все раненые уже проснулись, я тоже. В зал вкатывается большая железная тележка, на ней два молочных бидона, из которых идет пар. Раздают утренний кофе. И руководят этой процедурой две молодых девушки, и как будто по правилам романтической завязки: одна блондинка, другая — брюнетка; обе хорошенькие. Брюнетка наливает кофе в жестяные кружки и катит тележку, блондинка разносит их по тумбочкам, забирает использованные.
Прислушиваюсь и обнаруживаю мелкое хулиганство. Если раненый просит налить ему кофе второй раз, а это происходит довольно часто, эта самая блондинка говорит ему по-русски: «Ну куда тебе столько? Уссышься ведь». Но наливает еще. Немцы улыбаются, считают, что девушка мило шутит. Видимо в этом зале никто по-русски не понимает.
Доходит очередь до меня. Выпиваю я свою кружку, моя милая блондиночка этак ласково спрашивает: «Нох?» Я киваю головой, а она кричит во весь голос (извините, дорогие читатели): «Люда, смотри, вот совсем сопляк, видно, только что от мамкиной сиськи. Ведь, точно уссытся!»
Читать дальше