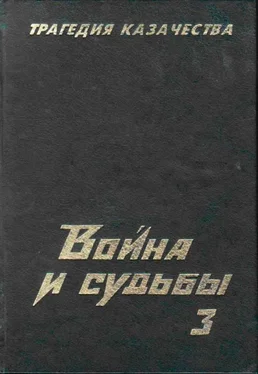Как пел Высоцкий много лет спустя: «А на кладбище все спокойненько, исключительная благодать».
Однако Смерть, собирая обильную жатву на этом заснеженном поле, посмотрела на мое пацанячье безусое лицо и нецелованные губы, только задела меня своим черным крылом и сказала: «Ладно, живи».
Правда, она не сказала, как мне предстоит прожить последующие годы, а то я мог бы и отказаться от ее милости.
Но со Смертью не спорят.
Сколько времени пришлось мне побывать на том свете, не знаю. Не догадался на часы посмотреть ни до, ни после. Но, видимо, недолго, иначе мне бы оттуда не вернуться… И скажу точно, что не видел я никакого длинного тоннеля с неким туманным сиянием вдали, как описывают это некоторые люди, побывавшие на грани жизни и смерти. Просто меня в это время не было, не существовало.
И вот я возник и открыл глаза, но сразу же их закрыл, так как прямо в лицо мне был направлен луч электрического фонарика. Я лежал на спине на груде битого, кирпича, кто-то поддерживал меня за плечи, а другой обматывал мою голову бинтом.
«Зачем? — тупо подумал я. Никакой боли в подбородке я не ощущал, боль, сильнейшая, невыносимая была во всем остальном теле, как будто все оно было разорвано на мелкие кусочки, которые как раз и нужно было как-то собирать вместе, а не мотать что-то на голову.
Люди, которые занимались мной и которых я не видел, тихо переговаривались между собой, но говорили они не по-русски и не по-немецки. Тогда я особого внимания на это не обратил, но впоследствии мне пришлось немало об этом поразмышлять. И не только мне.
Меня подняли под руки с обеих сторон, и я сделал несколько шагов, но на этом мое путешествие и закончилось: сильнейшая боль в груди молнией пронзила меня, почему-то справа налево, в глазах взметнулось красное пламя, и я снова полностью отключился.
Мне кажется, что во время этого скорбного пути, когда меня вели (несли? тащили?), я несколько раз приходил в сознание и снова терял его, но категорически утверждать это не буду — уж больно память моя в тот момент была ненадежной.
А вот уже нечто более определенное. Я нахожусь в полулежащем положении на каком-то старом рваном диване и пытаюсь осмотреться. Помещение небольшое, похожее на блиндаж. В дальнем углу на грубо сколоченном из досок столике горят две немецкие свечки-плошки. В блиндаже несколько человек. Ближе всех ко мне стоит высокий человек в шинели и высокой фуражке. Я сразу решаю, что это офицер. На рукаве шинели читаю надпись на черном фоне «Вестланд». Против нас в последнее время действует немецкая дивизия СС «Викинг», а она состоит из трех полков: «Нордланд», «Вестланд» и «Дейчланд».
Значит, я у немцев.
Дальше, у противоположной стены, стоит человек, хотя и плохо мной видимый, но он в военной форме. У входа я вижу две трудно различимые фигуры, но они явно не немцы. И все ведут какой-то разговор, которого я не понимаю, да я его и не слушаю.
И снова красное пламя, и я потихоньку начинаю сползать с дивана. Офицер резко поворачивается, хватает за плечо и не дает мне упасть на пол, а дальше я уже ничего не вижу и не слышу.
Потом просвет в несколько минут, меня укладывают на носилки, выносят наружу и вместе с носилками устанавливают в санитарный автомобиль на второй ряд. Внизу кто-то стонет.
Автомобиль трогается с места, и на первой же ухабине я снова ухожу в небытие.
Когда я окончательно прихожу в сознание, я лежу на полу на мягкой подстилке в большой, ярко освещенной комнате, а два седобородых осетина в папахах и черкесках раздевают меня. Они уже все сняли с нижней половины моего бедного тела, и в момент, когда я открыл глаза, я вижу в руках одного из них мою гимнастерку, вся грудь которой залита кровью. Моей кровью.
Они заканчивают свою работу и, негромко переговариваясь, уходят, а возле меня сразу же появляется пожилая женщина с тазом теплой воды. Она мокрым полотенцем вытирает все мое тело за исключением, конечно, спины, ибо перевернуть она меня не в силах, а сам я и вовсе ни на что не способен.
Затем два санитара в белых халатах и с зелеными немецкими пилотками (или кепи. Как их правильно назвать, я не знаю) на головах надевают на меня длинную, ниже колен, белую рубаху, укладывают на носилки и несут в операционную.
Операционную описывать не буду, я ее плохо рассмотрел, да и все ее много раз видели в многочисленных кинофильмах о войне. Я лежу на столе в этой длинной рубахе, без кальсон и без трусов, вокруг меня, как мне показалось, суетится много людей, но я их почти не вижу, потому что не могу повернуть голову и гляжу только вверх.
Читать дальше