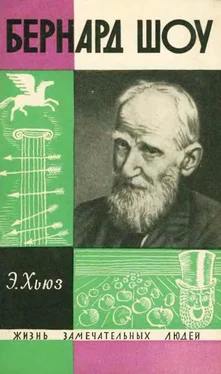Вот при каких обстоятельствах я на всю жизнь лишился способности испытывать при исполнении похоронного марша из Героической симфонии чувства, доступные другим людям».
Не случайно так подробно останавливаемся мы на временах, когда молодой ирландец сокрушал своих музыкальных врагов, мефистофельски хохотал над бездарностью, проникающей на сцену, разил направо и налево, задевая порой не только виноватого, но и правого. В этих журнальных боях складывались уже элементы его собственного, совершенно оригинального стиля. В этой журналистике было уже нечто от его последующей драматургии. Да и журналистику Шоу считал высоким жанром и неизменно, до самой смерти брал ее под защиту. В предисловии к своей статье «Святость искусства», которая вышла отдельным изданием только через два десятилетия после того, как впервые появилась на страницах американского журнала «Либерти» в ответ на книгу Макса Нордау «Вырождение», Шоу воистину с яростью бросался на защиту журналистики:
«Журналистика, — писал он, — может притязать на звание высшей формы литературы, ибо самая высокая литература является журналистикой. Писатель, вознамерившийся высказать нечто общее и банальное, что предназначалось бы «не для одного века, а для всех времен», бывает вознагражден тем, что его не читают ни в какие времена; в то время, как Платон и Аристофан, пытавшиеся вразумить Афины своего времени, Шекспир, населявший те же самые Афины елизаветинскими ремесленниками и уорвикширскими охотниками, Ибсен, с точностью воспроизводивший местных норвежских врачей и прихожан, — эти драматурги еще живы и повсюду чувствуют себя как дома, лишь пыль и прах стали уделом многих тысяч в высшей степени академичных, педантичных и археологически точных деятелей литературы и искусства, которые всю свою жизнь надменно избегали безудержного журналистского пристрастия ко всему непрочному и преходящему. Я тоже являюсь журналистом, горжусь этим и намеренно выбрасываю из своих произведений все то, что не является журналистикой, придерживаясь твердого убеждения, что, никому не нужное теперь, оно и впоследствии не останется жить как литература. В своей работе я обращаюсь ко всем временам, но не изучаю никакого времени, кроме настоящего, которое я еще не освоил в совершенстве и никогда не освою… Только человек, который пишет о себе и своем времени, может писать обо всех народах и всех временах. Тот же, кто, напротив, полагает, что он и его время настолько отличны от всех других людей и времен, что было бы просто нескромным и неуместным ссылаться на его пример или допускать, что он может служить объяснением и иллюстрацией к чему-либо еще, кроме его собственной жизни и ее обстоятельств, — этот человек самый отчаянный из всех эгоистов, и притом, наименее интересный в наиболее забытый ив всех авторов. Итак, пусть себе культивируют то, что они называют литературой, а мне оставьте журналистику».

Рождение Джи-Би-Эс. «Выкопать и закидать камнями!» «Требую уважения… к жизни».
Следующим весьма знаменательным шагом в карьере Шоу было его вступление на путь театральной критики. В мире журналистики на смену пронзительному Корно ди Басетто пришел Джи-Би-Эс. Это был столь же остроумный, столь же серьезный и глубокомысленный, неистовый и непримиримый, последовательный и неподкупный, столь же дерзостно неуважительный и столь же задиристый джентльмен, каким был до него названный выше музыкальный критик. Фрэнк Хэррис, редактор «Субботнего обозрения», где Шоу начинал свою карьеру театрального критика, рассказывает:
«Шоу было тогда тридцать девять лет — тощий как жердь, лицо длинное, костлявое, борода нестриженая, рыжая, а волосы на голове светлые. Одевался он довольно небрежно — в костюм из твида с неизменным мягким воротником. Его манера входить в комнату, его резкие движения, столь же резкие и беспокойные, как и его ум, абсолютная непринужденность и мефистофельский взгляд — все выдавало в нем человека, уверенного в своих силах, очень прямого и в высшей степени решительного, хотя возможно, что в значительной мере он напускал на себя эту решительность, желая произвести на меня впечатление».
В новом еженедельнике Шоу должен был получать по шесть гиней за обзор, то есть больше, чем за музыкальные рецензии, да и труд здесь был не такой тяжкий, как на стезе музыкальной критики, потому что концерты иногда начинались часа в три пополудни, а оперы заканчивались в полночь; спектакли же были короче, к тому же новых пьес бывало гораздо меньше, чем концертов. Хэррис писал, что разница между работой музыкального и театрального обозревателя была столь же велика, сколь разница между ленивым существованием персидского кота и трудами лондонского ломовика. Впрочем, Шоу вряд ли разделял это мнение, потому что через четыре года такой жизни он заявил однажды, что работа театрального критика чуть не угробила его окончательно. Так или иначе, Фрэнк Хэррис был доволен своим обозревателем:
Читать дальше