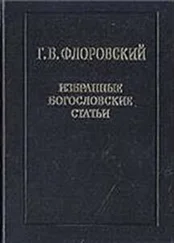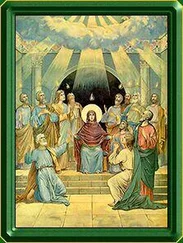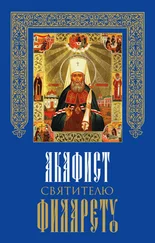С особым ударением Филарет всегда подчеркивал совершенную необходимость богословствования как обязательной и неотъемлемой стороны целостной духовной жизни. «Христианство не есть юродство или невежество, но премудрость Божия,» об этом он постоянно упоминал; и потому верующий не должен оставаться при одних только начатках Христова учения, но должен все глубже уходить в созерцание, размышление о Боге. Филарет постоянно призывал к тому, «чтобы никакую, даже в тайне сокровенную премудрость не почитали (мы) для нас чуждою и до нас не принадлежащею, но со смирением устрояли ум свой по Божественному созерцанию»… Только в постижении и разумении истины складывается и образуется «совершенный божий человек.» «Богословие рассуждает» — это любимое выражение Филарета; и заповедь рассуждения, заповедь богомыслия дана не немногим, но всем. И потому не может и не должно быть богословие только школьным предметом или дисциплиной, — но живым деланием. Ко всей пастве своей обращал Филарет свое учительское богословское слово, призывая каждого и всех к живому усвоению догматов веры и жизни. «Есть в природе человеческой странная двоякость и противоречие направлений, — говорил он однажды, — с одной стороны, чувство нужды в Божественном и желании общения с Богом, с другой — какая-то тайная неохота заниматься Божественным и наклонность убегать от собеседования с Богом… Первое из сих направлений принадлежит природе первозданной, а последнее — природе, поврежденной грехом»… Недостаточно иметь и хранить веру, — «может быть сомнение в том, точно ли ты ее имеешь и как имеешь,» — замечает Филарет. «Поcколько ты имеешь ее в Слове Божием и в Символе веры: постольку она принадлежит Богу, Его Пророкам, Апостолам, Отцам Церкви, а еще не тебе. Когда имеешь ее в твоих мыслях и памяти, тогда начинаешь усвоять ее себе; но я еще боюсь за мою собственность, потому что твоя живая вера в мыслях, может быть, есть только еще задаток, по которому надлежит получить сокровище, т. е. живую силу веры.»
Вера во всей полноте своего догматического содержания должна стать живым началом и средоточием жизни. И потому в своем Катехизисе, в качестве начального, огласительного поучения Митрополит Филарет обращал к каждому именно краткую стяженную систему богословия, — и совсем не для пустого запоминания, а для усвоения взыскующей мыслью и всецелой душою. Он не боялся пробудить мысль, хотя хорошо знал соблазны мысли. Не об естественной мысли говорил он, но о мысли верующей и христианской, закаленной смирением, освященной молитвою, укрепленной в Слове Божием и опыте церковном. Но при этом мысль не должна засыпать, но обновляться, окрыляться, и в познавании петь Бога. Притязание самовольной мысли Митрополит Филарет постоянно обличал, обличал непризванные притязания на учительство, говорил об ответственности за взгляды и убеждения, требовал их испытания благодатными мерилами. И при всем том призывал к размышлению и познаванию, ибо только в творческом делании, а не в пугливой уклончивости побеждаются и исцеляются соблазны. В этом — внутренний смысл того рвения, с которым Митрополит Филарет боролся за русский язык богословского преподавания. Он стремился сделать богословие общедоступным. Он совсем не разделял охранительной тревоги, стремившейся мертвым оплотом полупонятного, технического языка обезвредить беспокойство ищущих умов. В таком злоупотреблении охранительными и запретительными мерами он видел грех малодушия и маловерия, бездействия учительной власти. За русский язык в духовной школе приходилось именно бороться, и бороться не только с представителями государственной власти, в николаевское время опасавшимися всякого «размышления» как мятежа, но и с представителями старой богословской учености, утешавшимися схоластической премудростью, — к числу их, к сожалению, принадлежали и такие крупные деятели церковной науки, как Киевский митрополит Евгений (Болховитинов), тоже старавшийся дать «обратный ход» богословской науке — к временам схоластическим. Несмотря на неоднократные и прямые запрещения и государственной, и синодальной власти, и сам Филарет, и его ученики настойчиво переходили на русский язык; и под силою этой настойчивости латынь была оставлена прежде, чем отменена. Переход на русский язык означал освобождение от рабства и тем подражательным русским системам, которые сложились все на той же мертвой латыни в XVII и XVIII веках. Это был разрыв с преданиями киевского богословия [14], и он открывал путь к оживлению лучших и высших преданий, преданий отеческих времен. Так полагалось начало новому и творческому русскому богословию.
Читать дальше