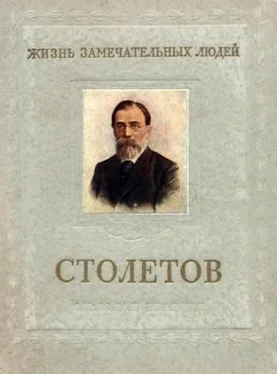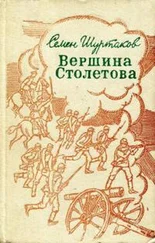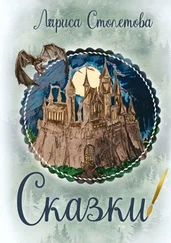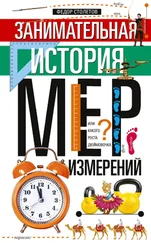Со страниц «Современника» начинают греметь голоса великих революционных демократов Чернышевского и Добролюбова, клеймивших самодержавие, несмотря на все цензурные препоны, ратовавших за переустройство всей русской жизни, звавших народ к революции. Вся Россия зачитывается обличительными стихами Некрасова. Все резче начинает звучать гневный смех Салтыкова-Щедрина. Появляются первые статьи Писарева, одного из властителей дум поколения шестидесятников. В русскую литературу в эти годы входит новый гений, участник героической обороны Севастополя, Лев Толстой. Блестящего расцвета достигает талант Тургенева. Русская литература делает своими героями людей из народа, ведет страстную пропаганду за отмену крепостнических порядков.
Испуганное ростом революционного движения и ослабленное неудачами в Крымской войне, правительство вынуждено отступать. Оно отменяет многие запрещения Николая I, ослабляет цензуру, разрешает новые периодические издания; не имеет возможности оно действовать по-старому и в области просвещения.
Празднование столетнего юбилея Московского университета, происходившее еще в январе 1855 года, превратилось в своеобразную общественную демонстрацию. На юбилее громко прозвучало обращенное к царскому правительству требование изменить политику в области просвещения. Недаром Чернышевский назвал 12 января 1855 года «днем блестящей победы науки над холодностью или неприязнью».
Правительство возвращает университетам многие из льгот, отнятых у них при Николае I. Университетам разрешают посылать за границу студентов, оставленных для подготовки к профессуре. Правительство упраздняет существовавшую ранее подопечность университетов генерал-губернаторам. Попечителями учебных округов назначаются люди прогрессивного направления. Попечителем был в этот период и такой выдающийся деятель русской культуры, как Н. И. Пирогов.
В 1857 году правительство открыло доступ в университеты лицам, вышедшим из низших сословий. Приток в университет этих людей способствовал усилению студенческого движения.
В университетах разгорается упорная борьба. Студенты выступают против реакционной профессуры, против произвола начальства, засилья формализма и казенщины, борются за свое право на самоуправление, за свободу студенческих корпораций.
Не дожидаясь соизволения свыше, студенты организуют кассы взаимопомощи, создают свои собственные библиотеки. Возникают многочисленные кружки самообразования, в которых студенты изучают материалистическую литературу. Начинают издаваться студенческие журналы и газеты. Многие студенты вступают в тайные революционные организации.
Студенты в эти годы становятся, как говорил в своих воспоминаниях Б. Н. Чичерин, «хозяевами университета».
Инициаторами многих выступлений и начинаний студенчества были казеннокоштные студенты, пенсионеры университета.
Казеннокоштные составляли особую прослойку студенчества. Это были дети бедных родителей, выходцы из демократических слоев населения.
Казеннокоштные дружной, шумной и веселой семьей жили в самом университете, в казенных номерах, помещавшихся на четвертом этаже библиотечного корпуса. Там же жил все свои студенческие годы и Александр Столетов — студент математического отделения физико-математического факультета. Он очень недолго находился на частной квартире. Приехав в Москву, жил он вначале в прославленных «Челышах» — дешевых меблированных комнатах Челышевского подворья на Театральной площади. Но вскоре же после поступления в университет Столетов стал его пансионером и переехал в студенческое общежитие, если говорить по-современному.
Казеннокоштные студенты отличались любовью к труду, к науке, своим горячим желанием служить родине. Несмотря на то, что казеннокоштные жили «бедно и голодно», вспоминал один воспитанник университета, они «работали серьезно и приготовлялись к полезной обществу жизни». Они были хорошими товарищами, «от них можно было пользоваться книжками и записками лекций».
Казеннокоштные издавна отличались смелостью своих убеждений.
Вот что писал Н. И. Пирогов, учившийся в университете еще в двадцатых годах XIX века. «В 10-м нумере (общежития казеннокоштных. — В. Б.), — вспоминал Пирогов, — я наслышался таких вещей о попах, богослужении, обрядах, таинствах и вообще о религии, что меня, на первых порах, с непривычки, мороз по коже пробирал… Все запрещенные стихи, вроде «Оды на вольность», «К современнику» Рылеева, «Где те, братцы, острова» и т. п., ходили по рукам, читались с жадностью, переписывались и перечитывались сообща и при каждом удобном случае».
Читать дальше