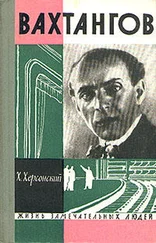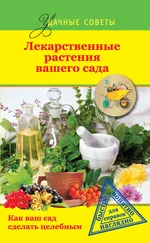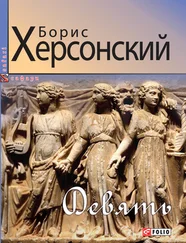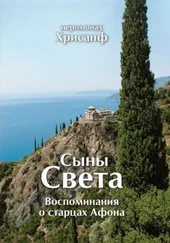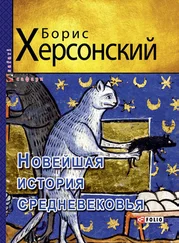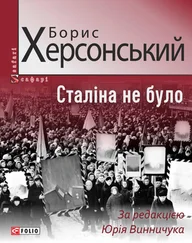Нервы в зрительном зале были напряжены до пределов, И; публика действительно стонала и плакала. К. С. Станиславский, посмотрев спектакль на генеральной репетиции, не одобрил его за неврастеничность и не захотел выпускать на публику. Сулержицкий насилу добился разрешения показать «Праздник» артистам труппы МХТ. Те приняли спектакль противоречиво. Многие восторженно. Особенно горячо выступил на защиту Вахтангова В. И. Качалов. Сопротивление Станиславского было сломлено.
Но Вахтангов уже сам увидел, что прав был Л. А. Сулержицкий, когда он, возмущенный, сказал после одной истерики в зрительном зале:
— Как сама истерия не есть результат глубоких переживаний, а только показывает на болезненную раздражительность нервов, органов чувств, так и причины, вызывающие истерики, тоже относятся не к духовному или душевному миру, а к области внешних раздражителей нервов… И это не область искусства!
Сулержицкий резко выступил против истерии, к которой легко увлекала актера система «театра переживаний». Леопольд Антонович писал: «Передавать на сцене истерические образы, издерганные души тем, что актер издергает себе нервы и на этой общей издерганности, на общем тоне издерганности играет весь вечер, заражая публику своими расстроенными нервами, — прием совершенно неверный, безвкусный, антихудожественный, не дающий радости творчества ни актеру, ни зрителям. Хотя прием этот и сильно действует, но тут действуют больные нервы актера, а не художественное воспроизведение образа, — это у актера испорченные нервы, а не у его героя. Образ издерганного, истерического человека художественно достигается, как и всякий образ, не общим тоном, а правильным подбором задач, их расположением, правильным рисунком роли и искренним, насколько можно от себя, выполнением в этом рисунке каждой отдельной задачи, лежащей в основе каждого отдельного куска, объединенных сквозным действием. Тогда это искусство, которое, какие бы ужасные образы ни воплощало, всегда радует и дивит, в противном же случае это сдирание своей кожи для воздействия».
Работая с актерами над ролями пьесы Гауптмана, Евгений Богратионович не всех сумел на этот раз удержать от «игры на нервах». В дальнейшем это у него никогда больше не повторится.
3
Летом 1913 года Л. А. Сулержицкий увез Вахтангова к себе на дачу в Канев.
Здесь над светлыми просторами Днепра, на Чернечьей горе, похоронен Т. Г. Шевченко. Эти места под теплыми ветрами родной Украины поэт облюбовал при жизни.
Привольная, щедрая природа навевала на Вахтангова мечтательную задумчивость. Он предавался полному отдыху, подолгу лежал молча, глядя в небо, наслаждаясь ленивым течением мыслей и тишиной. Но Леопольд Антонович Сулержицкий не давал своим гостям покоя. Отдыхавшее в его доме общество друзей, артистов, их семьи и дети вечно были заняты множеством дел и игр, которые Сулержицкий без конца придумывал для всех. Взрослые должны были колоть и пилить дрова, копать землю, возить в бочке воду и вместе с детьми играть в матросов на Днепре.
Вахтангов жарился на солнце, но Сулержицкий постоянно поднимал его на ноги.
— Ну, «сонный грузин»… Опять лежишь «под чинарой» и мечтаешь? Нет, я должен сделать из него человека!
И ласковыми пинками отправлял «на работу».
Евгений Богратионович вспоминает [18] Из рассказа Вахтангова на вечере 1-й студии МХТ в декабре 1917 года, в первую годовщину со дня смерти Л. А. Сулержицкого.
:
«Если бы уметь рассказывать, если бы уметь в маленькой повести день за днем передать лето Леопольда Антоновича.
А оно стоит этого, и именно день за днем, ибо Леопольд Антонович не пропускал ни одного дня так, чтобы не выделить его хоть чем-нибудь достойным воспоминания.
…Я попробую рассказать только один день такого лета, — лета, в которое он особенно использовал силу своего таланта объединять, увлекать и заражать.
Только один день. Это было в то лето, когда Иван Михайлович [19] И. М. Москвин.
был адмиралом, сам он капитаном, Николай Григорьевич [20] Н. Г. Александров.
помощником капитана, а Пров Михайлович Садовский министром иностранных дел и начальником «моторно-стопной» команды. Это было в то лето, когда Николай Осипович [21] Н. О. Массалитинов.
, Игорь, я, Володя и Федя Москвины. Маруся Александрова, Володя и Коля Беляшевские, Митя Сулержицкий были матросами и вели каторжную жизнь подневольных, с утра до сна занятых морским учением на трех лодках, рубкой и пилкой дров, раскопками, косьбой, жатвой, поездками на бочке за водой.
Читать дальше
![Хрисанф Херсонский Вахтангов [1-е издание] обложка книги](/books/206437/hrisanf-hersonskij-vahtangov-1-e-izdanie-cover.webp)