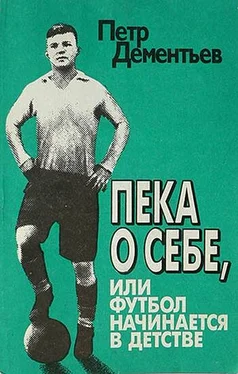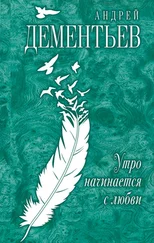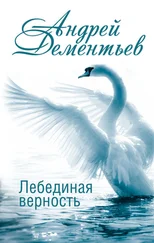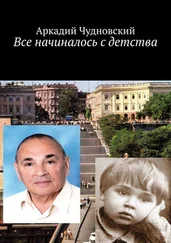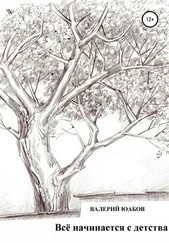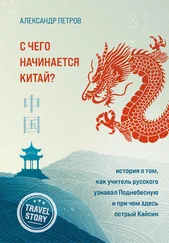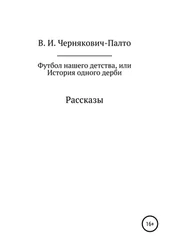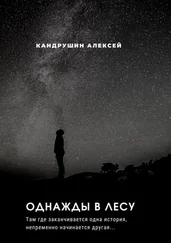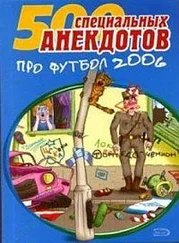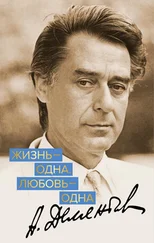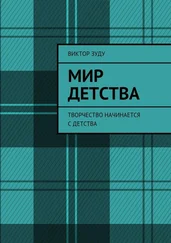Роста я был маленького, самому забраться на лошадь мне не удавалось: обычно меня подсаживал дядя Евсей. Беда подстерегала у овсяного поля, куда лошади забирались и не хотели выходить. Я с досады плакал, не зная, что и делать. Спасибо, выручал старший конюх — помогал вывести их из овса. А дальше была река Плюса, откуда открывался такой великолепный вид на высокий противоположный берег с домишками деревеньки Лысковщины, лесами и раздольем лугов, что просто захватывало дух. Старший конюх разжигал костер и сидел около него всю ночь, сторожа лошадей. А мы, ребятишки, спали рядом с ним у костра. В холодные ночи забирались в сарай, где хранилось сено.
Однако деревенька жила не одним трудом. Молодежь любила развлечения, разные подвижные игры, в особенности килки — игру, перенятую, судя по названию, у соседей-эстонцев. Играли в нее часто, особенно по церковным праздникам, свято соблюдаемым в деревне. На поляне около речки собирались две команды по пять-шесть человек в каждой. Игроки одной из них выполняли поочередно удары по деревянному шару деревянной битой. Шар подбрасывал игрок водящей команды, его товарищи располагались в поле. Выполнив удар, надо было быстро бежать за своей отлетевшей битой и вернуться назад, пока кто-то из соперников не перехватит летящий шар своей битой. Чтобы не проиграть, нужна была недюжинная скорость бега на отрезке 30–50 метров и точное попадание по шару. Мне это удавалось, и меня наперебой приглашали в команду старшие ребята. Бросал биту я так резко, что водящие игроки пугались:
— Петька, да ты нас убьешь!
На что я отвечал:
— Не бойтесь, не промахнусь!
И действительно, никогда не промахивался. Если в килки играли в любое время года, то в маслянку только зимой, когда замерзала речка. Делали во льду лунки и пасовали друг другу палками деревянный шар. Располагавшийся в центре водящий игрок должен был отнять шар и занять чью-либо лунку во время перемещения остальных игроков. Эта незатейливая игра развила у меня умение вести шар, держа палку одной рукой, очень пригодившееся впоследствии в хоккее.
Дома сидеть не любил и в зимнее время. Когда трещал мороз и ребят не выпускали на улицу, катался один на санках и ледянке с горы или на коньках и лыжах по льду замерзшей речки. Санки и коньки делал мне дядя Евсей — мастер на все руки. Для коньков он брал небольшие деревянные полоски и вставлял между ними кусочки железа, ну а санки у него получались просто превосходные. Глядя на дядину работу, я изготовил себе лыжи. Взял полоски от старой бочки, набил на них кусочки кожи, валявшиеся на полу в мастерской у дяди, и соорудил лыжные крепления. Начинал кататься, когда лед на реке был еще не очень крепким, и частенько проваливался в воду. Хорошо, что речка была неглубокая, да и дом рядом. Забирался сушиться на печку, выслушивая, как мать сердито бранит меня за неосторожность. В таких случаях мою сторону всегда принимал дядя Евсей, внушавший мне ничего не бояться. Так же бесстрашно катался я с горок на ледянке. Брал у дяди Евсея пилу, вырезал из панциря реки кусок льда толщиной с полметра, садился на него и съезжал с крутого берега вниз. Кувыркался, падал, вставал, и все повторялось снова, хотя набивал себе синяки и шишки.
Любимой летней забавой было, конечно, купание в речке. Плавать, как и все деревенские ребята, научился сам. Летом ребятишкам поручали присматривать за коровами. Спасаясь от жары, коровы залезали в речку, пока вода не доходила им до брюха. Мы забирались туда, где поглубже, плавали и ныряли.
Однажды я очутился в лесу в «змеиный день», когда все деревья были просто увешаны шипящими и извивающимися гадами. Отталкивающее и одновременно завораживающее зрелище оставило в памяти неизгладимое впечатление об этих местах, как о колдовских.
Так незаметно пролетели два года. Жизнь в Петрограде понемногу налаживалась. Надо было возвращаться домой. Дядя Евсей очень привязался ко мне, просил мать оставить меня в деревне, но она не согласилась. Сам я с болью в сердце расставался с этими местами, словно чувствовал, что никогда их больше не увижу.
Когда мы вернулись в Петроград, мне было уже лет десять, но никакой грамоте меня еще не обучали — в Лыпышеве не было даже начальной школы. Пришлось ходить пешком от Смольного, в районе которого находился наш дом, в школу для переростков на Знаменской улице у Московского вокзала. Брата Колю поместили в школу такого же типа, только на улице Жуковского. После привольной деревенской жизни учеба показалась довольно скучным занятием. Из всех предметов больше всего любил математику — она давалась мне легко. В критической ситуации, когда остальные ученики были не в состоянии решить особенно трудную задачу, старенький учитель вызывал к доске меня, приговаривая:
Читать дальше