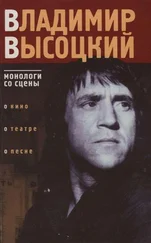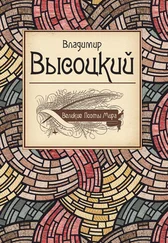Или еще. Совсем неожиданное.
— Володя, а вы думаете о смерти?
— Конечно.
— Без встречи со смертью не может быть ничего, нравственности быть не может. Я так долго думал об этом, что как будто накликал... Я умирал в 9 лет. У меня был дифтерит, был безнадежен.
В палате нас лежало четверо, трое умерли, я их всех помню... А я три раза умирал. Страшный приступ, задыхаешься — и все. Потом как-то прочитал: улетает душа в какой-то тоннель... А я это видел: она улетает, а ты остаешься и видишь себя, тело свое видишь... И чувство жуткой досады, что не успел доделать то, что, наверное, не мне одному нужно...
«Я говорил больше, он задавал очень сильные вопросы, — вспоминал Юрий Федорович Высоцкого. — Спецификой его восприятия являлась его невероятная впитываемость. Он был, если позволено так сказать, выпытчик. Внутри него как бы помещался постоянно работающий духовный магнитофон, который все записывал. При этом Володю отмечала поразительная интеллигентность, состоявшая в том, что он подчеркнуто и, конечно, без унижения какого бы то ни было всегда давал тебе какой-то сигнал о том, что ты, мол, старше, а я — младше, и, соответственно, я веду себя так, а ты — иначе. Он как бы поднимал собеседника, провоцировал на монолог, а сам все это время что-то внутренне записывал, записывал, записывал...»
Литератор, тонкий знаток Достоевского, философ и горький пьяница Юрий Федорович Карякин считал Высоцкого своим младшим учителем. Старшими — Солженицын, Сахаров, Лидия Чуковская, Можаев, Любимов. А из младших «на первом месте, конечно, Володя. Я в полном смысле этого слова считаю себя его учеником, — говорил Карякин. — Когда свои «аккумуляторы» «садились», всегда можно было «подзарядиться» от этих людей...»
Когда в 1964-м Карякин впервые попал на Таганку, то сразу понял, что пропал, влюбившись в этот театр и его актеров. Тогда еще обратил внимание на паренька, который стоял после спектакля в театральном коридоре и что-то пел под гитару, просто так, для себя. «Ему было 26, а мне 34, — вспоминал Юрий Федорович. — Он стал для меня воплощением возможности невозможного. У него было родное им всем, и Маяковскому, и Пастернаку, чувство: идет охота на волков. Была травля, была охота. Но — «я из повиновения вышел». Он первым выскочил из этого, почувствовал восторг свободы. «И остались ни с чем егеря», понимаешь? И мы, старшие, с каким-то недоверием: приснилось, что ли? А он не боится, он идет. Они стреляют, а он идет, по канату, и хохочет при этом! Он был осуществленной дерзостью. Не политической, черт с ней, - человеческой...»
Настоящее же понимание друг друга пришло с началом совместной работы над «Преступлением и наказанием». Они часами репетировали, спорили, вторгались в какие-то философские глубины. Карякин давал ему свои книжки, пичкал бесконечными историями. Рассказывал «младшему учителю» о своей непростой биографии. За спиной была такая череда взлетов и падений, что на пятерых бы хватило. Попав в опалу ЦК, был отправлен в «почетную ссылку» в Прагу, оттуда — в «Правду». В 1968-м был исключен из партии за дерзкое выступление на вечере памяти Андрея Платонова. После бедствовал, учительствовал, перебивался случайными заработками и писал, писал, писал. В стол. Так что проблемы Высоцкого были ему близки и понятны. В официальную беллетристику Карякину удалось вернуться только в середине 70-х.
Ему очень хотелось проникнуть в таинство силы Высоцкого-актера. Вспоминал, как в перерыве между репетициями вышли на Садовое, стояли, курили, и он спросил его:
— Убей, не понимаю, как ты так быстро «врос» в роль?
— Надо, чтобы стало больно, как тому, кого играешь. Вот, помню, в школе, во время переменки мы заспорили: что слабо, что не слабо? Кто-то сказал: «А вот слабо воткнуть перышко в глаз?..» Один дуралей вдруг взял перышко, подозвал первоклассника — и воткнул... Я тогда как-то сразу многое понял. Как будто в меня воткнули! — объяснял Владимир.
Еще Высоцкий рассказывал, как они студийцами на третьем курсе занимались Достоевским. Традиционно студенты ограничивались Чеховым и Горьким. А тут Достоевский! Вчерашний студент, их преподаватель Витя Сергачев предложил Высоцкому и Вильдан: «Давайте-ка, попробуем, рискнем поставить отрывок из «Преступления...». Возьмем целиком, без сокращений весь текст Достоевского — последний приход Порфирия Петровича к Раскольникову. Попытаемся полностью буквально выполнять все, говоря по-театральному, ремарки Достоевского, как у него написано, так и будем играть». Мы еще удивились: как, целый кусок? Это же очень много, долго! Если весь кусок играть — выйдет минут сорок. Сергачев молодец, не поддался: «Ну и что, что 40? Подумаешь!..» — «А как кафедра посмотрит? Там же на весь экзамен отводится часа два-три, не больше». — «Ну и пусть себе смотрят, это как раз их дело — смотреть». И они, правда, смотрели, не шелохнувшись...
Читать дальше