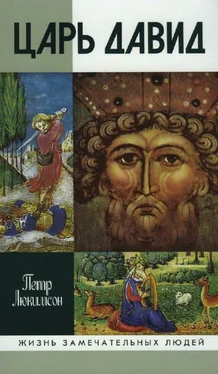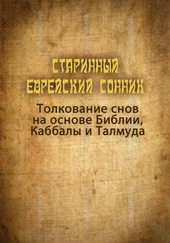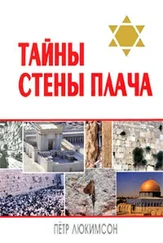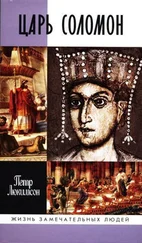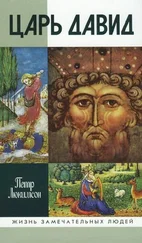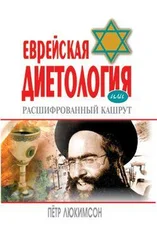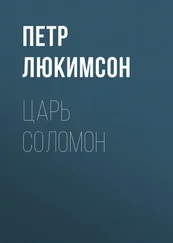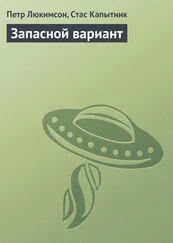Глава седьмая
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР
Историки, ставящие под сомнение историчность личности Давида и утверждающие, что речь идет о вымышленной фигуре, обычно упирают на тот факт, что кроме еврейских письменных источников у нас нет никаких доказательств, что такой человек существовал в действительности. Но тогда, замечают их противники, верно и обратное: если бы мы безоговорочно принимали на веру только еврейские письменные источники, то нам следовало бы сомневаться в том, существовали ли когда-нибудь на свете фараоны по имени Рамзее, Тутанхамон, Мернептах и все прочие — ведь в Библии имена фараонов не упоминаются; о какой бы эпохе ни шла речь, владыка Египта называется просто «паро» — «фараон».
По той же причине и в египетских, и других хрониках не упоминаются имена еврейских царей — тем более что с точки зрения египтян крохотное еврейское государство и его цари долгое время вообще не заслуживали внимания.
Но ведь и с точки зрения археологии, говорят «отрицатели» историчности личности Давида, в отличие от Египта, нет совершенно никаких доказательств его существования — тех или иных артефактов XI–X веков до н. э., на которых бы значилось его имя. Впрочем, и последнее вполне объяснимо — к примеру, тем, что у археологов и сегодня нет возможности провести полномасштабные раскопки на Храмовой горе в Иерусалиме. Да и не принято было у евреев ставить статуи своих царей, так как это категорически запрещено Пятикнижием. И все же постепенно Иерусалим открывает нам свои тайны, и мы начинаем получать все новые и новые, пусть пока и косвенные подтверждения реальности существования личности царя Давида.
К примеру, в начале 2000-х годов израильский археолог Э. Мазар в ходе раскопок в Городе Давида, то есть в самой древней части Иерусалима, обнаружила несущую стену огромного трехэтажного здания, которое в свою эпоху, видимо, возвышалось над всеми остальными строениями города, так что с него хорошо просматривались крыши и дворы всех остальных домов в пределах крепостных стен. Продолжая раскопки, Мазар наткнулась на останки поддерживавших этот дом колонн, сам внешний вид и орнамент которых однозначно свидетельствовали об их финикийском происхождении. Никогда и нигде прежде на территории современного Израиля финикийских колонн не обнаруживали. Зато в Библии, о чем уже говорилось, рассказывается, что сразу после взятия Иерусалима финикийский царь Хирам направил Давиду в подарок «кедровые деревья, и мастеров по дереву, и мастеров по камню для стен, и построили они Давиду дом» (II Сам. 4:11).
Понятно, что финикийские зодчие должны были строить дом Давида именно в своей национальной традиции, и таким образом, у Э. Мазар не осталось почти никаких сомнений в том, что она обнаружила тот самый дворец царя Давида, который до нее искали многие археологи.
Обосновавшись в Иерусалиме, Давид, подобно другим восточным владыкам, значительно расширил свой гарем и, видимо, продолжал пополнять его едва ли не до последних лет своей жизни:
«И взял Давид еще наложниц и жен из Иерушалаима после того, как пришел из Хеврона. И вот имена родившихся у него в Иерушалаиме: Шаммуа, и Шовав, и Натан, и Шеломо, и Йивхар, и Элишуа, и Нэфэг, и Йафийа, и Эишама, и Элийада, и Элифэлет» (II Сам. 5:14–16).
Это, видимо, далеко не полный список сыновей, которых родили Давиду его восемнадцать жен и множество наложниц. Устное предание утверждает, что всего у Давида было четыреста сыновей, и хотя эта цифра не вызывает особого доверия, она, очевидно, отражает восхищение народа перед тем множеством детей, которых породил царь.
А ведь помимо сыновей были еще и дочери! Вся эта огромная толпа домочадцев, даже если она размещалась не в одном, а в нескольких домах, попросту не могла не сталкиваться друг с другом, не вести борьбу за внимание и любовь Давида, не вступать между собой в те или иные взаимоотношения, и потому в царском дворце постоянно бурлили страсти и интриги.
В число домочадцев Давида вошел и калека Мемфивосфей — сын Ионафана и внук Саула. Специальным указом Давид закрепил право Мемфивосфея на все имущество его деда Саула, поручил старому слуге Саула Сиве (Циве) управлять всем хозяйством, а сам поселил Мемфивосфея с женой и маленьким сыном в своем дворце, удостоив потомка Ионафана чести есть с ним за одним столом. Авторы Библии, а вслед за ними и
Иосиф Флавий чрезвычайно комплиментарно описывают этот поступок царя, видя в нем проявление подлинного благородства. Однако если задуматься, то, проявив заботу о Мемфивосфее, Давид лишь выполнял клятву, данную в свое время лучшему другу. Такая верность слову заслуживает уважения, но никак не восхищения. Да и сам Давид, очевидно, относился к своей «милости» по отношению к Мемфивосфею именно как к исполнению клятвы, к желанию быть чистым перед Богом, а не как к велению души:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу