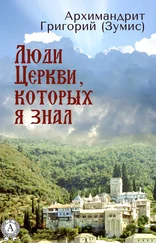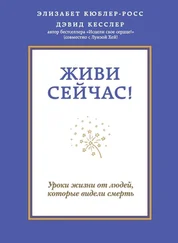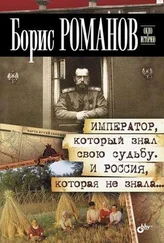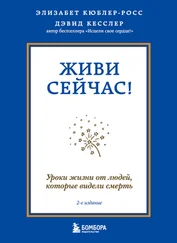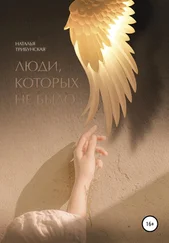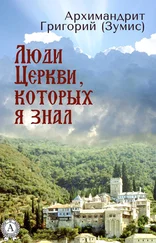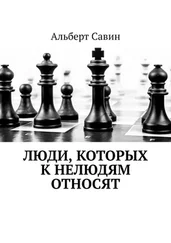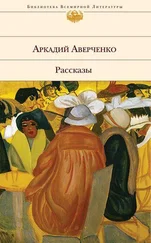На мое счастье, в управлении Комитета по делам искусств по Свердловской области оказался необыкновенно добрый и приветливый заведующий. Он проникся моим бедственным положением, связался с Томском, куда уехал из Москвы Комитет по делам искусств, и получил для меня телеграфное распоряжение Комитета, подписанное заместителем Храпченко Солодовниковым: направить доцента Чегодаева в Самарканд, выдать ему командировочное удостоверение, снабдить деньгами… Все это было как полагается оформлено, я распростился со своим отцом, горячо поблагодарил заведующего Свердловским управлением Комитета по делам искусств и уехал на юг и юго — восток, в Среднюю Азию, через Челябинск и Оренбург.
В Оренбурге я застрял на три дня. Через него шли бесконечные поезда, ни на один из которых нельзя было сесть, даже не продавали билетов. И я три дня бродил по Оренбургу, который был тогда еще прежним, одноэтажным и просторным, прелестным городом XVIII века, времен Пугачева. Были ясные, солнечные дни, засыпанный снегом город был особенно хорош под этим солнечным сиянием. Мороз был несильный, и это, конечно, скрашивало трудное положение, в котором я оказался. Большую часть времени я проводил на широченной привокзальной площади. Одноэтажный вокзал дугой охватывал дальнюю сторону площади, войти в него было невозможно, так он был набит народом — негде было поставить две ступни. Вдоль длинных стен вокзала, как и стен других зданий, сплошь сидели и лежали (на снегу!) люди с детьми, с багажом, ожидавшие возможности уехать. Центральная дверь вокзала была заперта, а широкое парадное крыльцо перед главным входом, окруженное невысокой каменной балюстрадой, было единолично занято очень важным и, видимо, очень богатым господином в роскошной шубе и бобровой шапке, с женой и какими‑то другими родичами и великим множеством чемоданов, саквояжей, баулов, корзин, картонок и пр. Он не позволял никому даже близко подходить к крыльцу, зорко охраняя свою изобильную поклажу. На второй или третий день у него все‑таки сперли какой‑то чемодан или саквояж, и этот дядя, похожий на модного тенора или очень знаменитого, обласканного высшим начальством писателя, громко на всю площадь рыдал, проливал ручьи слез, вопиял, заламывая руки к небесам. Это было крайне противно, и на многолюдной площади его не жалел никто, все только смеялись и издевались.
На третий день кого‑то осенило открыть особую новую билетную кассу для командировочных. Таковым единственным счастливым человеком на всей площади и внутри вокзала оказался я — взял без несостоявшейся очереди билет себе и другой билет старой и очень больной докторше, которая лежала с наружной стороны вокзала на земле. С помощью добрых людей и все же с большим трудом я втащил ее в некупейный вагон первого же подошедшего поезда, идущего в Ташкент, пришлось положить ее на пол в проходе, под окнами — никто в переполненном до отказа вагоне не шелохнулся, чтобы уступить ей место. Сам я присел на краешек одной скамьи, на которой лежала очень важная и очень толстая дама, страшно негодовавшая, как я смел сесть на дальний конец скамьи, и тщетно пытавшаяся дотянуться до меня своими толстыми и короткими ногами. На соседней скамье возлежал ее супруг, тоже очень толстый и важный, но его ноги были немного длиннее и их как раз хватало, чтобы не позволять никому сесть на конец скамьи. В тот же день я обнаружил, что у кого‑то из этой противной пары имеется отец: очень почтенного вида и с очень кротким лицом старик с длинной седой бородой, он был посажен своими родичами на багажную полку над входной дверью в вагон! Ему подавали туда еду, и в определенные часы дня он надевал полосатую накидку (талес), пристраивал на лбу черный кубик и молился. Я, конечно, через двадцать лет вспомнил этого старика, когда увидел его точного двойника на прекрасной ранней картине Марка Шагала «Молящийся еврей» в чикагском Художественном институте. В окружающей неприглядной и тяжелой обстановке этот старик на багажной полке явился мне как подлинный луч света в темном царстве.
Как я ехал до Ташкента и сколько дней — не помню, знаю только, что все эти дни был очень голоден — ничего не ел всю дорогу. В Ташкенте я устроил, чтобы больную докторшу отвезли с вокзала в больницу, а сам добрался до Самарканда. Приехал в Самарканд уже в середине ноября.
Наш приезд в Самарканд. Художественный институт в эвакуации. Фаворский, С. Герасимов, Ульянов, Грабарь, Фальк, Моор. Возвращение в Москву
Первое, что я сделал, ступив, наконец, на самаркандскую землю — я стал разыскивать свою жену Наташу и дочь Машу, чтобы вызвать их в Самарканд. Я каким‑то образом получил неверную информацию, будто музыкальную школу при Московской консерватории, с которой они в июле уехали в Пензу, перевезли в Алма — Ату, в Казахстан. Я несколько раз писал в Алма — Ату, не получая никакого ответа, пока уже в декабре не узнал, что музыкальную школу никуда из Пензы не переводили.
Читать дальше