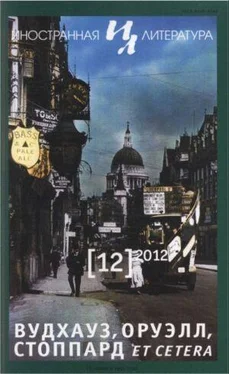Между тем у Этель были свои приключения. Что она делала в конце войны, не вполне ясно, но в эти первые месяцы ее действия легко отследить. Она говорила, что «едва не лишилась рассудка», когда Вудхауза забрали. На вилле, реквизированной немцами, оставаться было невозможно, и через пару дней ей удалось достать ордер на комнату — у некоей мадам Бернар в местном рыбохозяйстве, километров за пятьдесят от побережья. В «довольно мрачный дом посредине запущенного поля» ее с несколькими чемоданами, попугаем Коко и пекинесом Золотце подвез немецкий солдат. Там ей выделили маленькую спальню, окнами на задний двор, где она «просидела около часа, пытаясь понять, как не пасть духом окончательно, и безумно волновалась за Пламми». Несмотря на то что Францию захватили нацисты, жизнь в стране шла на удивление спокойно. Этель просто каждый день выводила собаку на прогулку и ждала, когда придет почтальон. Дней десять спустя, как она рассказывала Дэнису Маккейлу, пришла открытка: «Пламми писал, чтобы я не волновалась, у него все хорошо, он в Лилле». Весь год вынужденной разлуки Вудхауз с женой слали друг другу письма и открытки, на наш взгляд — удивительно часто.
В молодости, желая поупражняться в писательском ремесле, Вудхауз бродил по лондонским улицам в поисках впечатлений и записывал все в блокнот. Теперь новые впечатления грозили захлестнуть его, и уже пожилым человеком он вспоминает старую привычку и заводит дневник, известный теперь под названием «лагерного». Дневник послужил основой для утерянной впоследствии рукописи о военных похождениях Вудхауза, которую автор сам иногда называл «Вудхауз в Стране чудес». Эти карандашные заметки — практически единственный источник сведений о его жизни с июля 1940-го по июнь 1941 года. Из-за внезапного потрясения обострились его инстинкты журналиста. «Хотя для респектабельного джентльмена на склоне лет встряска оказалась нешуточная, — говорил он позже, — но все происходящее было весьма интересно, и я с нетерпением ждал завтрашнего дня».
Оказавшись в тюрьме Лооса, Вудхауз по-рыцарски уступил единственную кровать в 44-й камере Картмеллу, старшему из них, и провел первую ночь в плену на тонком соломенном матрасе прямо на полу, укрываясь грубым одеялом и не снимая одежды. Заснуть не удалось. Трое взрослых мужчин едва умещались в камере; в блокноте Вудхауз описал эти суровые условия:
Камера четыре метра на три, беленые стены, в углу под окном кровать. Окно большое, полтора метра на метр, воздух довольно свежий. Пол гранитный. Стол и стул привинчены к полу, туалет в углу у двери. Дверь деревянная, внизу на ней новые панели — в них во время бомбежки стучали ногами заключенные. Одно из стекол в окне разбито шрапнелью, на стенах выбоины от шрапнели… Возле туалета в стене маленький умывальник с краном, вода совсем чистая. Наверху две скобы… В углу у двери дубовая полка, наполовину разломанная заключенными, чтобы бить в дверь. Один деревянный крючок.
Узников поднимали в семь утра и кормили завтраком: миска водянистой похлебки и буханка черствого хлеба. В полдевятого их вели на задний двор на получасовую зарядку. Остаток дня они проводили в камере, только в одиннадцать был обед («овощная похлебка»), а в пять ужин («овощная по-1 хлебка, но чуть погуще»). Для Вудхауза плен — это одновременно неуверенность в завтрашнем дне и тупое однообразие быта. Из канализации шла жуткая вонь — как везде во Франции, говорили немцы. Со свойственным ему оптимизмом и оглядкой на школьные годы в Далвиче, Вудхауз записывал: «В тюрьме все проявляют себя с наилучшей стороны». Три дня спустя интернированные подали прошение коменданту; узнав, как французские тюремщики обращаются с английскими узниками, он устроил разнос и значительно смягчил режим: даже разрешил заключенным свободно передвигаться по тюрьме.
Вскоре, 27 июля, интернированных из Ле-Туке перевезли поездом в бывшие бельгийские казармы в Льеже. Хотя Вудхауза и записали «Видхорзом», но в последний день в этой тюрьме к нему подошел немецкий солдат, пожал руку и сказал: «Спасибо вам за Дживса!» Вспоминая первую неделю в плену, Вудхауз вновь обретает свой привычный тон:
Если подытожить мой тюремный опыт, то я бы сказал так: тюрьма еще ничего, если заглянуть туда на денек, но поселиться там надолго — увольте! Я не проливал горючих слез у решетки, когда покидал Лоос. Я был рад уехать. Последнее, что я увидел в старушке альма-матер, был охранник, который захлопнул дверь фургона и, сделав шаг назад, крикнул по-французски: «Трогай!» Мне он сказал «До свидания» — по-моему, несколько бестактно с его стороны.
Читать дальше