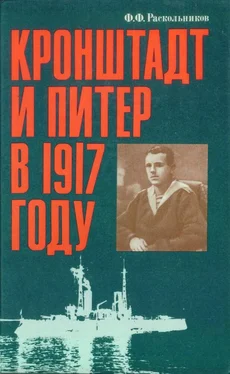Приехав в Питер рано утром, я решил в тот же день выехать в Лугу.
Я поехал на Варшавский вокзал и устроился в каком-то вагоне IV класса с выбитыми окнами. Вечером я был в Луге, где прежде всего направился в местный Совет, помещавшийся в здании вокзала.
В небольшой станционной комнате сидели за столом члены президиума Совета — военные врачи и офицеры; все были в форменных кителях с погонами. Когда они узнали, что я большевик, то отнеслись ко мне очень холодно, но все же старались держать себя в пределах приличия. Заговорив с ними о моем намерении сделать доклад о задачах и тактике большевиков, я узнал, что как раз сейчас должно состояться заседание Лужского Совета. Разумеется, я не упустил этого случая для рекогносцировки местных настроений. Здесь же, в зале вокзала, собрались члены Совета. В большинстве это были представители Лужского гарнизона. Мне бросились в глаза несколько казаков в надетых набекрень фуражках, из-под которых выбивались пышные пряди волос.
Эти казачьи депутаты по своему внешнему виду живо напоминали тех истуканов, которые в старорежимное время постоянно стояли в карауле у царских дворцов.
Я приступил к докладу. Аудитория слушала с выражением угрюмого и равнодушного безучастия к самым животрепещущим и злободневным проблемам. Казалось, Лужский Совет по-обывательски плохо разбирался в вопросах политики. Вместо ожидавшейся бури, негодующих прерываний моей речи и, может быть, более крупного скандала на деле даже казаки хранили гробовое молчание. Я совершенно спокойно и беспрепятственно закончил свою речь. Раздались жидкие аплодисменты: в Лужском Совете было мало наших сторонников. С возражениями выступил приезжий из Питера правый эсер Кузьмин.
Член Совета крестьянских депутатов, он производил впечатление интеллигента старого закала, достаточно насидевшегося в тюрьме и ссылке. Высокий, худой, уже немолодой, он отвечал мне тихим и ровным голосом, в спокойном, невозмутимом тоне. Без запальчивой резкости, обычно свойственной эсеровским ораторам, он пытался ослабить мою критику Временного правительства ссылкой на нашу неспособность в данных условиях улучшить положение вещей. «Если партия большевиков, — говорил Кузьмин, — возьмет власть в свои руки, то удастся ли ей заключить мир с Германией и прекратить экономическую разруху? Я отвечаю — нет И» Вообще, вся его защита Временного правительства была вялой. По-видимому, он сам чувствовал неизбежность перехода власти в руки большевиков. После Кузьмина взял слово какой-то неведомый моряк, который, стуча кулаком по груди, истерически выкрикивал отдельные бессвязные фразы:
— Я сам был на острове Эзеле… я подвергался налету германских аэропланов….. я бежал из немецкого плена… и т. д. и т. д.
Из краткого повествования о своих личных военных передрягах он совершенно нелогично делал оборонческий вывод о необходимости продолжения «войны до конца», «войны до полной победы над Германией». Впрочем, зубодробительно-шовинистический характер речи моряка— оборонца не помешал ему на следующий день подойти ко мне и повести разговор в самых дружественных тонах.
После кровожадного оборонца я вторично потребовал слова. В этой заключительной речи я дал отповедь обоим ораторам соглашательского толка. Меня больше всего поразило то, что враждебная аудитория Лужского Совета хранила флегматичное молчание. Даже в самых «большевистских» местах моей речи, когда приходилось остро касаться больных и злободневных вопросов, никто не пытался перебить мою речь или вставить злобную, ядовитую реплику. Это настроение удрученности, отсутствие пафоса борьбы, близкое к отчаянию недоверие к своим силам резко бросалось в глаза у наших противников.
В то время как сочувствовавшая нам аудитория повсюду шумно и страстно выражала свои политические чувства, враждебные нам элементы как-то притихли, и даже на своих собраниях, где у них было обеспеченное большинство, они предпочитали отмалчиваться. Конечно, я говорю не об отдельных лидерах соглашательских партий, продолжавших при всех обстоятельствах тянуть одну и ту же ноту, а об эсеровских и меньшевистских массовиках, чувствовавших лучше своих вождей веяние надвигающейся бури. В их рядах ощущался болезненный упадок духа, препятствовавший бурному выражению их несогласий с речами ораторов-большевиков. Запах тления и смерти стоял в зале, где подавляющее большинство скамей было занято эсерами и меньшевиками; моя речь звучала в могильной тишине, как надгробная эпитафия над этими партиями, доживавшими свои последние дни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу