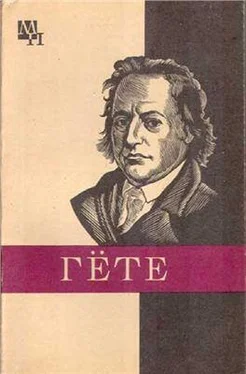Даже неестественное есть природа, на самом грубом филистерстве лежит нечто от ее гения . Кто не видит ее повсюду, тот нигде не видит ее перед собой.
Она любит себя и навеки прикована к себе бесчисленными глазами и сердцами. Она расчленилась для того, чтобы наслаждаться собою. Все новых и новых гурманов пробуждает она в своем ненасытимом стремлении передаться…
Она позволяет всякому ребенку мудрить над собой, каждому глупцу судить о ней; тысячам тупо проходить мимо и ничего не видеть; и во всех она имеет радость и со всеми ведет свой расчет.
Ее законам повинуются также тогда, когда противятся им; даже и тогда действуют с ней согласно, когда хотят действовать против нее…
У нее нет языка и речей, но она творит языки и сердца, которыми она чувствует и говорит.
Ее венец — любовь. Только любовью приближаются к ней… Каждому является она в собственном виде. Она скрывается под тысячью имен и названий, и всегда одна и та же.
Она ввела меня в жизнь, она и уведет. Я доверяюсь ей. Она может распоряжаться мною. Она не возненавидит своего творения. Я ничего не сказал о ней. Нет. Она уже сама сказала, что истинно и что ложно. Всё ее вина, всё ее заслуга» (7, 2, 5–9).
Мировоззрение Гёте, в каких бы формах оно ни выступало, художественной, философской, естественнонаучной, житейски-мудрой, все равно, предваряется именно таким миром. Решающий принцип Гёте гласит: «Если естествоиспытатель хочет отстоять свое право свободного созерцания и наблюдения, то пусть он вменит себе в обязанность обеспечить права природы; только там, где она свободна, будет свободен и он; там, где ее связывают человеческими установлениями, он будет связан и сам» (7, 2, 167). Мы еще успеем проследить конкретный праксис этого принципа у Гёте; вышесказанное имеет значимость попытки краткого очерка введения в гётевское мировоззрение. Трудность понимания этого мировоззрения качественно однотипна с трудностью понимания феноменов природы в духе Гёте. Можно предположить даже, что в иных случаях названная трудность практически оказывается непреодолимой. Преодолеть ее — значит выполнить ряд предварительных условий, среди которых мы, резюмируя сказанное, решились бы пока выделить следующие три, может и не лишенные некоторой акустической наивности для терминологически избалованного слуха, но бесконечно глубокие там, где кончается власть термина и начинается понимание и жизнь. Первое: существует мир, который должен восприниматься как он есть, чисто и непосредственно («Чувства не обманывают, — говорит Гёте, — обманывает суждение» — 7, 5, 348). Второе: необходимо для достижения такого восприятия дать миру беспрепятственно воздействовать на душу, не выпячивая никаких априорных понятий и представлений, приобретенных из книг. Помнить, что «всякий новый предмет, хорошо увиденный, открывает в нас новый орган» (7, 2, 32). Что мешает видению? Спешность, с которой мы подменяем восприятие словами, терминами, понятиями, теориями и концепциями, словно бы речь шла не о познании мира, а о поучительных истинах о мире, преподносимых нами миру без того, чтобы мы сочли возможным поучиться у самого мира. Отсюда вытекает третье, наиболее парадоксальное, но вместе с тем и наиболее решительное условие: лингвистический катарсис , обязательность которого вменяется правилами не философской логики, а философской терапии. Если корень зла сокрыт в словесном самоотравлении, если язык чаще всего маскирует отсутствие мыслей, то познание, желающее быть познанием, а не обманом и самообманом, должно решиться на временную диету и временно отказаться от слов. Испытание молчанием — участь каждого слова, если ему назначено быть не кимвалом бряцающим, а благовестием. Задача не из легких, в иных случаях — мы говорили уже — просто невыполнимая. Но вот же, сказав это, разве не уготовили мы очередной триумф еще одному незабытому слову? Невозможность. Пусть так, но в таком случае будем помнить, что невозможность — это Гёте. Ибо что же такое Гёте, как не «полный словарь» забытых (ибо по-предметному хорошо увиденных) слов, сотворивших целую ослепительную культуру, включающую так или иначе «всё», вплоть до констатации потомков: Гёте сотворил наш язык и литературу. Всмотримся же в эту невозможность, забыв ее словесного двойника: когда литература творится такими словами, она уже больше, чем просто литература, больше, чем любое из слов. Гёте, увиденный так, — сущее бельмо в глазу одних и орган восприятия в других. Это следовало бы принять во внимание с самого начала: здесь дело идет не об учености, а о жизни, или, как выразился однажды сам Гёте в связи с Винкельманом: «Читая это произведение, мало чему научаешься, но чем-то становишься» (3, 227).
Читать дальше