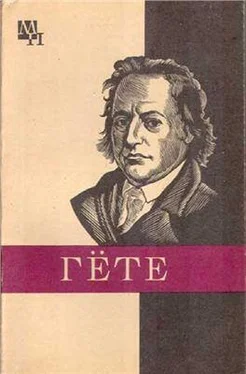Стоит ли и говорить, что самым плачевным выводом из вышесказанного было бы поспешное суждение о наличии у Гёте логофобии, словоненавистничества. Для любителей парадокса мы сказали бы, что это было бы вдвойне плачевным как раз с учетом того, что словоненавистничество и в самом деле присуще Гёте. Парадокс вполне уместный, так как именно на нем можно еще раз проверить собственное умение или неумение отличать пустые слова от… скажем пока, непустых. Вдумаемся для этого хотя бы в само слово «словоненавистничество». Что оно значит именно в данном контексте? Можно — и примеры этого мы уже приводили в достатке— оторвать его от реальной личности самого Гёте, довольствуясь лишь «побрякушками» собрания сочинений, и набрать такой букет свидетельств, что, не знай кто-либо, что речь идет об авторе «Фауста» и даже просто создателе немецкого языка и литературы (как-никак!), у него не осталось бы и капельки сомнения в том, что он имеет дело с заклятым врагом человечества. Между тем истина заключается как раз в противоположном: заклятый враг человечества оказывается на деле величайшим другом его, и для того, чтобы это понять, а не, скажем, просто принять на веру, поскольку этому учили в школе, следует на время отречься от слов, забыть слова, тем более что они свидетельствуют об обратном, и погрузиться в непосредственное наблюдение того феномена, вокруг которого и в связи с которым стало возможным такое количество самых противоречивых слов. Эта процедура, по Гёте, наитруднейшая. «Нет ничего труднее, — говорит он, — чем брать вещи такими, каковы они суть на самом деле» (9, 31(4), 112). Трудность связана прежде всего с тем, что наше восприятие вещи бессознательно сращено со словами и обусловлено словами; мы настолько отвыкли от первозданного, младенчески чистого созерцания вещи и, с другой стороны, настолько привыкли к языковым знакам, что, образно выражаясь, взгляд наш, брошенный на мир, лишь в редких случаях достигает самого мира, без того чтобы по ходу он не был перехвачен мощными пеленгаторами беспредметной лингвистики, коренящейся в самих наших инстинктах. Возникает ситуация, действительно подмеченная многими языковедами; беда в том, что патология восприятия выдается за норму восприятия. Слова, охраняющие, как Цербер, доступ к вещи, подменяют нам саму вещь ее акустическим образом; в результате мы оказываемся замкнутыми в некоей лингвистической монаде, в которой есть и понятие вещи, и ее акустический образ, и еще целый набор терминологических случайностей и нет лишь одного: действительности .
Но, говоря о логофобии Гёте, даже отрывая ее от реального ее контекста, можно ли забыть хоть на секунду, что речь идет о несравненном гении языка. Парадоксальность этого соотношения — чистейший мираж; по существу оно донельзя естественно и очевидно. Именно суровейшая неприязнь к словам могла вызвать к жизни такой сказочный источник словотворчества. Сила гётевского слова — в поэзии или романе, письме или научной заметке — первозданна в самом буквальном смысле («herrlich wie am ersten Tag», как сказано в Прологе «Фауста»). Давно было замечено, что если у других, пусть даже самых значительных поэтов слово передает некое состояние, выражает его или сотворяет, так что в любом случае между ними сохраняется интервал и различие, то у Гёте слово равно самому состоянию, есть оно само, как если бы само состояние (природное явление, душевная страсть или тончайшая мысль, все равно), исполненное глубочайшего содержания, но немое по природе, обрело вдруг дар речи и выговорилось до конца. Это и изумляло современников: романтиков, классиков, философов, политиков, любителей и специалистов, включая августейших особ, от Карла Августа до Наполеона. Изумленный Шиллер писал об умении Гёте «внезапно и полностью высказать тайну сердца в одном-единственном слове». Он и приводит пример такого слова, слова «вечно», произносимого одною из гётевских героинь: «Это единственное слово, на этом месте, равносильно целой долгой истории любви, и вот же, оба влюбленных стоят друг против друга так, словно бы их связь существовала уже многие годы» (5, 1, 139). Подумаем же теперь, сколько таких единственных слов оставил нам в наследие человек, словарь которого исчисляется почти мифическим количеством! И вспомним еще раз, что он сам говорит о происхождении этого словаря: «Непосредственному созерцанию вещей обязан я всем, слова значат для меня меньше, чем когда-либо». Незначимость слова у него — не мировоззренческое кредо иррационалиста или традиционная мистическая тривиальность, а тактический прием мастера, который, сознавая, как никто, магические возможности слова, отлично ведает, с другой стороны, всю ущербность словоупотребления. Поэтому и оказываются возможными внешне взаимоисключающие позиции, которые по сути дела вытекают одна из другой. Лишь в полной мере обнаружив свое жесткое недоверие к словам, мог Гёте решиться и на следующее признание: «Не будь язык, бесспорно, наивысшим, чем мы обладаем, я поставил бы музыку выше языка и превыше всего» (9, 11(2), 170). Но не ему ли, испытаннейшему диалектику опыта, было знать, что на каждый образ есть свой противообраз и что, стало быть, противообразом наивысшего могло бы быть только наинизшее. Оттого стратегия словотворчества сознательно предпочитает тактику словоненавистничества. Гёте, несомненно, подписался бы под саркастической поправкой Киркегора к известному афоризму Талейрана: язык дан нам не для того, чтобы скрывать мысли, но для того, чтобы скрывать отсутствие мыслей. «Добрая вы душа, — сказал он однажды Эккерману в этой связи, — ни мысли, ни наблюдения не интересуют этих людей. Они рады и тому, что в их распоряжении имеются слова для голословия» (3, 276).
Читать дальше