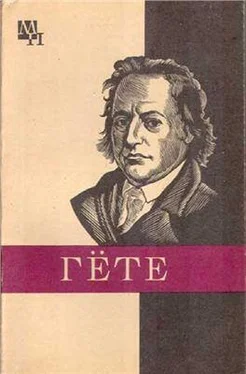Один начинающий стихотворец распространялся перед Гёте о муках собственного творчества и был облит ушатом ледяной воды: «О страданиях в искусстве не может быть и речи!» Можно ли было вытерпеть такое из уст автора «Вертера», «Тассо» и «Мариенбадской элегии»? С каким сердцем расставался незадачливый новичок с его превосходительством господином Тайным Советником, в котором он не смог ни увидеть тайны, ни услышать совета, и пришло ли ему вообще в голову элементарное соображение: а можно ли было говорить на эту тему с автором «Вертера»? Едва ли. Сила слова «страдание» настолько вытеснила в нем силу вещи «страдание», что он не в состоянии был осознать очевиднейшей правды услышанного. О страдании в искусстве не может быть и речи, так как сама речь искусства вспоена страданием и есть просветленное страдание. Таков серьезный контекст реплики. Но ей, несомненно, присущ и иной контекст: подвоха, провокации, щелчка по лбу. Ибо распространяться (к тому же не без теоретической подготовки, надо полагать) о страданиях в искусстве — значит просто не иметь к нему никаких отношений, и тогда о них вдвойне не может быть речи, как не может быть речи и о самом искусстве; слишком серьезные партнеры страдания и художник для того, чтобы выбалтывать свою связь открытым текстом, да еще украшенным междометиями и наспех позаимствованными из какой-то научной дисциплины терминами. Эти термины — термиты, пожирающие вещь и мысль; наивернейший признак отсутствия вещи и мысли — слова, нарушающие молчание, слова-выкидыши, непочтительные к смыслу и оттого лишенные смысла, обладающие разве что значением, о котором уже написано и будет еще написано столько научных трудов. Другой случай мы уже приводили — дилемма, с которой пристал к Гёте Лафатер: либо христианин, либо атеист. Состояние Гёте оказалось аналогичным тому, что он пережил при знакомстве с ботаникой Линнея, где весь растительный мир объяснялся путем сведения к номенклатурным рубрикам. Страсть к классификациям, с которой пришлось столкнуться молодому Гёте, была почти болезненной; классифицировали все что угодно, вплоть до мифической фауны, считая, что без этого не может быть ни понимания, ни объяснения. Надо было определяться не только в «табели о рангах», но и во всевозможных иных табелях: о родах, видах, вероисповеданиях, предпочтениях, мировоззрениях, художественных вкусах. Понять что-либо значило просто назвать это; открывалась великая эпоха наименований и анкетных данных. Одни оказывались эмпириками, другие рационалистами, третьи классицистами, четвертые романтиками, пятые христианами, шестые атеистами, но угроза нависала над теми, кто ничем не оказывался, не желая вообще чем-либо оказываться. Случай Гёте — едва ли не величайшая из когда-либо существовавших помех самому принципу классификации, анкетирования, определения через термин. Он действительно не мог ответить ни на один вопрос анкетного типа не потому, что скрывал что-то, а потому именно, что хотел открыть себя. Вот несколько свидетельств времен его прибытия в Веймар: «С каждым мигом растет мое неведение о самом себе» (9, 4(4), 304); «Я все меньше понимаю, кто я такой и что я должен» (9, 6(4), 91). Самое определенное, что он может сказать о себе: «Теперь я чувствую себя здоровым, бесстрастным, без сумбура, без неопределенностей в поступках, но как некто любимый Богом» (9, 4(4), 50). Парадоксально, но именно эта определенность в несколько негативной переформулировке и закрепится за ним впоследствии, когда его все-таки подведут под рубрику «баловень судьбы». «Я знаю, — признался он Эккерману в возрасте восьмидесяти одного года, — для многих я, как бельмо в глазу, и они жаждут от меня избавиться» (3, 608). Бельмо в глазу — принципиальная неанкетируемость человека, подчинившего свою жизнь правилу: «Мы должны быть ничем, но мы хотим стать всем» (9, 1(4), 244). От него же требовали быть: христианином или атеистом, рационалистом или эмпириком, поэтом или ученым. Надо было быть чем-то, и не просто чем-то, а альтернативно чем-то: «или — или». Или поэт, или ученый. Если же становились и тем и другим, то стереотип реакции срабатывал без промаха: не поэт и ученый, а поэтизирующий ученый, в лучшем случае поэт, увлекающийся науками и предвосхитивший кое-что в них. Так, Леонардо, открывший кровообращение, предвосхитил-де Гарвея, Дюрер, написавший первый учебник по прикладной геометрии на немецком языке, был-де гениальным дилетантом, Гёте, творец органики, опять предвосхитил-де Дарвина и т. д. Странная и изрядно сомнительная порода предшественников и предвосхитителей, этаких контрабандистов от науки, лишенных полноценного признания в научном «что-то» только потому, что взыскуют решительно «всё». «Математическая гильдия, — свидетельствует Гёте, — постаралась сделать мое имя в науке настолько подозрительным, что люди опасаются его произносить» (3, 462). Больше всего, конечно, повезло «поэту» Гёте, не считая «баловня судьбы», — его постарались основательно загнать в рубрику «поэзия», хотя и под давлением фактов — с правом несносно-контрабандных вылазок во «всё».
Читать дальше