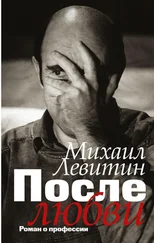Нет, вокруг нее конечно же была оживленная компания, пытавшаяся быть ей интересной, и она отвечала, улыбаясь, но все это выглядело так обыкновенно, как само собой разумеющееся, что у Саши начинало першить в горле.
Видно было, что Киев ей нравился, и Саша начинал гордиться Киевом, который и сам успел полюбить и никак не мог насытиться этим городом, насладиться. Он стал больше киевлянином, чем сами киевляне. Город брал тебя сразу в охапку, ты двигался внутри него, как птица внутри кроны, ты обретал себя в нем, как семечко внутри плода. Разворошить этот город не могли ни обстрелы, ни погромы, он был непоколебим.
Странно, что они встретились именно внутри этого большого пространства, и что он совсем не устает, спасая ее на расстоянии, у него еще останется достаточно сил, чтобы вечером с галерки смотреть «Нору» и уже сидеть, совсем как свой, проживший рядом с ней целый день, и какой день!
Он все-таки доследил, привел ее на сцену. И вот она играет.
Еще сдержаннее, чем прошел этот день, так же не позволяя себе лишних движений, нервозности, только теперь он слышит ее голос и понимает, чего был лишен.
В нем она вся. Настоящий актер весь в голосе. Он никогда не будет великим актером, потому что у него самый обыкновенный голос. И ужас этого понимания владеет Сашей весь первый акт, пока она играет, продолжается и в антракте, когда он сидит, обхватив пылающее лицо ладонями, но, к счастью, исчезает в середине второго, потому что теперь уже все равно.
Всё в мире все равно, когда она есть, когда она обходится без помощи, сама, сама, и совсем не Жанна д’Арк, просто женщина, которой не на кого рассчитывать. И партнеры понимают это, и Бравич, в которого она, вероятно, влюблена, деликатно освобождает ей дорогу.
Вот она присела на краешек стула, слегка зажала ладони коленями, чтобы не мешали существенному, и это существенное произнесла, а может быть, помолчала, он не помнит, какая разница, смысл-то все равно дошел, смысл был в ней самой, в ее маленьком теле, в ее огромных, слегка выпуклых глазах, в плечах, на которые невозможно было смотреть, когда она отворачивалась, пряча от зала лицо.
Неужели она плакала? Кто заставил ее плакать?
И Саша сидел в окружении врагов на галерке, сжимая кулаки.
Как просто играть, как невозможно играть просто, как невозможно научиться так играть.
— Она не актриса, — сказал кто-то после спектакля. — Просто женщина. Тут какая-то хитрость.
Просто женщина! Ладно. Пусть они так думают.
* * *
Он читал ей свое эссе о театре Комиссаржевской, написанное внезапно и странным для него образом, вдохновенно.
Обычно у него были адвокатские заготовки для усиления речи, периоды, точь-в-точь повторяющие друг друга, — что для речи на смерть Чехова в 1904 году, что на смерть самой Комиссаржевской в 1911-м. Здесь не было лицемерия. Вероятно, эти фразы казались ему наиболее поэтическими: «И не верится в его смерть, как не верится в солнечный августовский день, что уже миновало лето». Почти то же о Комиссаржевской, только «его» сменялось на «ее». Но это будет после.
Он даже не задумывался, перенося их из одной тетрадки в другую; просто сильнее сказать нельзя, думал он. Вера в силу общих мест присутствовала в нем, в какой-то степени он был страстным схоластиком. Веру в общее место, в эмоции вообще, потом перенес и в театр.
Читал свое эссе Саша в ее номере, в гостинице, никем не рекомендованный, познакомившись с ней в холле и сразу вызвав доверие. Вера Федоровна всегда доверяла студентам, стремящимся к ней прорваться, влюбленным в нее. Она не любила толпы, даже зал, наполненный для нее людьми, случайно купившими билет, вызывал в ней скорее ужас, чем трепет. Но таких, возникших перед ней внезапно, как бы из-под земли, с горящими глазами, зажав в руке трубочку тетради, она любила как своих мейстерзингеров, распознавая сразу. Становилось тепло в груди, будто она влюбилась внезапно, чтобы разлюбить к спектаклю. Потом она сразу забывала лица признающихся ей в любви, пыталась припомнить перед сном, кто это приходил с тетрадочкой, а припомнив, сразу же легко засыпала. Они стали ее снотворным.
Таирова же она не забыла — в нем чувствовалась мера ответственности перед ней, он не казался сумасшедшим, сидя напротив в гостиничном кресле и читая что-то написанное о ней свое, а потом еще и «Красный цветок» Гаршина, чтобы она могла оценить его актерские способности. Он внушал ей скорее уверенность, чем тревогу, являл собой друга, а вовсе не нетерпеливого влюбленного. Он был опрятен, надежен, ясен.
Читать дальше
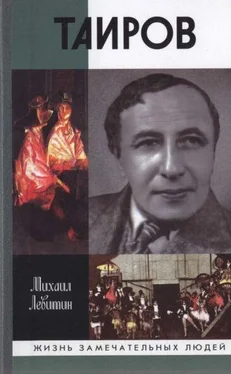
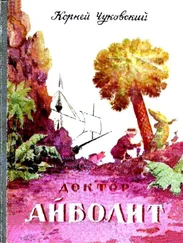





![Михаил Левитин - После любви. Роман о профессии [сборник]](/books/431108/mihail-levitin-posle-lyubvi-roman-o-professii-sbo-thumb.webp)