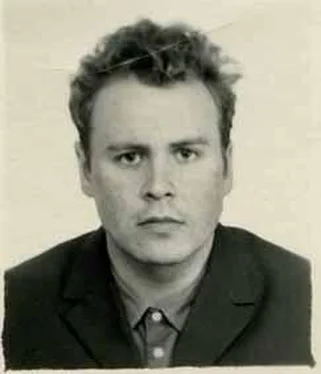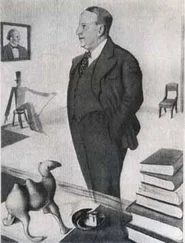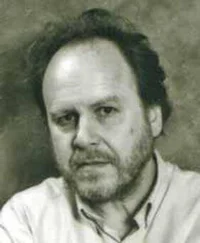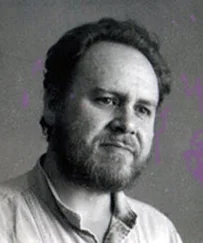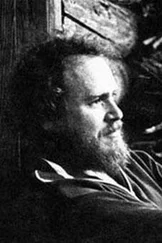Мое физико-математическое образование одновременно мешало мне и воодушевляло меня. В стихах — точность и естественность; в литературоведческой прозе — мерещилось мне — должны быть точность и полнота; необходимость и достаточность. Сейчас я знаю, что полнота недостижима, а педантичное стремление к ней подчас и мешает, скрадывает горизонты; тогда — верил в нее. Недостижима она потому, что литературоведение — что угодно только не наука. Говорят: литературоведы — несостоявшиеся поэты и писатели. Вздор. Они — несостоявшиеся физики и математики: наводят наукообразие там, где, спору нет, нужны ум и знания, совершенно необходим писательский дар — и абсолютно недостижима формализация, бесплоден формальный подход, без которого не бывает науки. Они выплескивают ребенка вместе с мыльной пеной. Любовь, ненависть, грусть, отчаяние, вообще любая нравственная составляющая — вот в чем жизнь литературного произведения, и тут математика не работает, потому что материя слишком сложна. Литература исследуется только средствами литературы. Литературовед (я не говорю об архивистах) — в первую очередь писатель, а всё остальное потом… Но как раз работа над Ходасевичем поощряла мою мечту о полноте. Его не было на карте, его предстояло открыть. Айдесская прохлада — вообще первая попытка характеризовать его целиком.
Из двух подходов — спекулятивного и компилятивного — я выбрал второй, менее выигрышный, более трудоемкий. Решил не декларировать и не утверждать, сколько хватит сил, а строить статью по кирпичику, вглядываясь в эпоху и лица, — иначе говоря, уважать читателя, сделать очевидное для меня очевидным для него, себя же спрятать… и был потрясен тем, как много косвенно говоришь о себе, честно и самоотверженно говоря о другом. Это сразу стало для меня принципом в прозе: избегать самовитого местоимения всюду, где без него можно обойтись. Только в мемуарах оно неизбежно. Всё равно ведь о себе пишем, что бы ни писали… Работал я над статьей три месяца, каждую свободную минуту; закончил 4 апреля 1981 года. По объему получилась небольшая монография. Я отпечатал ее и раздал на прочтение. Среди первых критиков отмечу Я.Ю.Багрова, врача, знатока литературы и мыслителя (он утверждал, что у России по отношению к евреям — эдипов комплекс); Наталию Борисовну Шанько, переводчицу, вдову актера Антона Шварца, и Ксению Дмитриевну Ридберг, жившую в Доме политкаторжан (Петровская набережная 1/2. кв. 50). Шанько, с которой я не виделся, велела передать мне, что я «очень умный человек»; спасибо ей. Ридберг в основном журила меня; уверяла, что по-русски нельзя сказать перефразировать . Ей тоже спасибо. Читали, конечно, и все часовщики . Останин сказал, что он — «за нормальное захоронение»; это означало: я непомерно превозношу консерватора и ретрограда. Что ж, он держался другой эстетики. К 26 мая 1981 года был готов второй вариант статьи. Она вышла в Часах (в 29-м номере), а в 1983 году — еще и в машинописном журнале Молчание . Поправки я продолжал вносить и после этого.
Статья удалась и произвела некоторое движение в умах. Ее читают до сих пор, на нее ссылаются, с нею спорят. Тщательно написанный текст живет долго. Конечно, тогда — Ходасевич был автором запретным и забытым. Это послужило трамплином моей статье и моей известности. Незнакомый человек, московский профессор Ю.И.Левин (мой полный тезка), писал через три года после опубликования Айдесской прохлады : «Владислав Ходасевич — белое пятно на карте отечественного литературоведения. Несколькими проницательными статьями (А. Белого, В. Набокова, Ю. Колкера и др.) едва намечены контуры этой земли…» (Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 17, 1986). Еще выразительнее оказался другой отзыв. На библейском конгрессе в Иерусалиме в 1993 году я познакомился с лингвисткой и пушкинисткой Н.Ботвинник, поразившей меня образованностью и живостью ума. Услышав мое имя, она сперва не хотела верить: «Это же псевдоним!», а когда поверила, сказала: «Я вас люблю!» (не подумайте лишнего: как автора).
В процессе работы над статьей я многие часы просидел в Публичке. Кандидатский диплом открыл мне доступ в какой-то не совсем обычный крохотный читальный зал, хоть и не в спецхран, конечно. Просмотрел и прочел я горы книг и журналов. Среди попутных открытий отмечу два. В статьях о Мандельштаме в 1920-е годы повторялась мысль о том, что он «неискренен». Но что такое неискренность в стихах? Неумение себя выразить, иначе говоря, невладение словом. Вообще им не восхищались. Прибавьте сюда еще и многократно отмеченную «холодность» его стихов — и вспомните, какой бум вокруг него начался в 1970-е. «Лучший поэт всей человеческой цивилизации» — было и такое сказано (естественно, в еврейских кругах). Почему Мандельштам не произвел громадного впечатления на современников? Да очень просто: как это всегда бывает, видели человека — и не слышали стихов. Как человек же Мандельштам куда как уступал убедительностью Ахматовой или Маяковскому; карликом рядом с ними казался. Горстка людей понимала его значение.
Читать дальше